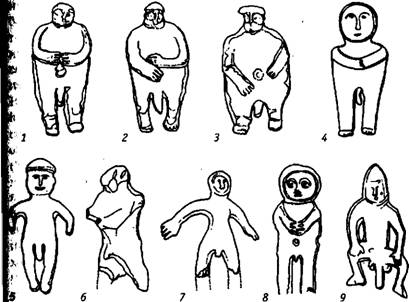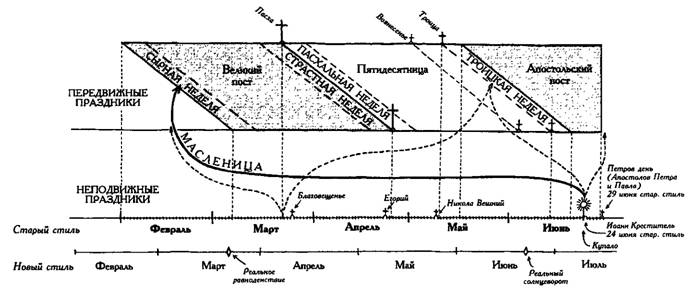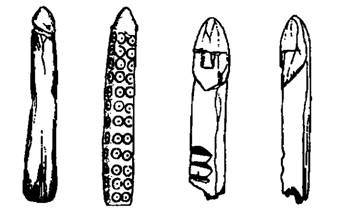|
||||
|
|
Часть III. ВЫХОД НА СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЮ1. БОЧКИ НА МЕДНОМ НЕБЕМедное небоВайнахские сказки приписывают Пиръону создание небес из меди или сплава на медной основе (латуни). Хотя в славянском ареале и нет прямых сведений такого рода о Перуне, приходится все же считать, что славяне принесли их с собой на Кавказ, так как вайнахские сказочные тексты совершенно отчетливо противопоставляют эти небеса настоящим и не приписывают их создание своему, местному богу. В глубоком прошлом славяне, подобно балтам и другим индоевропейцам, видимо, представляли себе небо каменным (Reichelt 1913; Biezais 1960; Pisani 1965: 842), и Перун, с его атрибутом позднего неолита — каменным молотом, был причастен к этим представлениям (лингвисты связывают его имя с хеттским peruna «скала» — см. Иванов 1968). Но сам Перун не выступает непосредственно создателем неба, да еще медного. Тем не менеее он к подобной деятельности близок. По освоении металлов в мифологию балтов вошел бог-кузнец демиург Телявель (аналог финского Ильмаринена, греческого Гефеста, римского Вулкана и др.). Он стал помощником главного бога, а потом — Перкуна, выковал солнце и поместил его на небо (Briickner 1904; Топоров 1966: 143-149; 1970). А в хеттской мифологии именно бог грозы, аналог Перуна, повелел богу растительности Телепину (ср. с именем Телявеля) привести «небесного Солнечного бога» из моря, чтобы возвести его на небо (Иванов 1972: 195-196). У осетин божественный Батрадз, герой с чертами громовержца, «дух грозы», по Дюмезилю, не живет на земле. Он то летает, то отдыхает на небе у небесного кузнеца Курдалагона (Дюмезиль 1976: 59). В славянской мифологии приравненный еще в древней Руси к Гефесту бог Сварог, имя которого сопоставляют с древнеиндийским «сварга» «небо» (Фасмер 1971: 710-711; Enrietti 1980: 75; Трубачев 1983: 257), считался отцом солнечного Дажьбога и породителем огня (Сварожича), а также основателем кузнечного мастерства: при нем с неба упали кузнечные клещи и люди научились ковать. Чудесный кузнец, культурный герой, фигурирует в восточнославянском фольклоре под именем Кузьмодемьяна (от Св. Кузьмы и Демьяна — из греческих Космы и Дамиана, — ставших патронами кузнецов по созвучию со словом «кузнь») (Иванов и Топоров 1965: 141-143; Lowmianski 1979: 225; Рыбаков 1981: 529-531, 538). Таким образом, в эпоху металла небо в представлениях славян было связано не только с солнцем и огнем, но и с кузнечным ремеслом, с ковкой. Отсюда недалеко до представления неба медным. По финскому эпосу небесный свод был выкован божественным кузнецом Ильмариненом, а в Эгейском мире на исходе бронзового века (собственно уже в железном) Гомер прямо называет небесный свод медным (Ил. V, 504; XVII, 425; Од., III, 2). Так и у других архаических авторов Греции — Феогнида, Пиндара (Шмидт 1931: 15-17). О медном небе, отмечает Шмидт (1931: 16), напоминают медные купола христианских церквей (по-гречески «купол» — «oupaviGKog», ураниск, т. е. небесный). Видимо, и славяне не избежали этого развития космографических представлений, пройдя через бронзовый век. Какова, однако, связь Перуна с божественным кузнецом и медью у самих славян? Сохранились поверья, что кузнец наделал громовых стрел Св. Илье (христианскому заместителю Перуна у славян), за что получил превосходство над чертями. Черти, гонимые Перуном, не любят и боятся кузнецов, а молнии не зажигают кузницу (Перетц 1899: 21). И хотя громовыми стрелами в народе называли кремневые наконечники (неолита и бронзового века), находимые в земле, но в народной загадке молния определяется так: «Летит медная стрела, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица» (Афанасьев 1865,1: 245). Да и у греков, судя по Гомеру (II, XI, 65) и Эсхилу (fragm. 192, N2), киклопы делают медную молнию. К новому времени языческое представление о медном небе сохранилось у русских христиан в качестве инвертированного образа. В народном стихе Христос угрожает людям: если не послушаете моих заповедей, то сотворю небо медным, а землю железною. От неба медного росы не воздам, От земли железной плода не дарую, поморю вас гладом на земле; Кладези у вас приусохнут, Источники приоскудеют. Не будет на земле травы, Ни на древе скоры: Будет земля яко вдова. (Афанасьев 1865, I: 142) Так теперь представлялась русским людям жизнь под медным небом. Таким образом, есть основания полагать, что небеса из меди или сплава на медной основе оказались в кавказской характеристике Пиръона — Перуна не благодаря какой-то местной инновации, а принесены из славянского очага, где они сохранялись в тесной связи с Перуном от бронзового века. В Центральной же и Восточной Европе это было все то же II тыс. до н. э. Правда, Рыбаков относит сложение у славян комплекса идей о божественном кузнеце к железному веку — на том основании, что ковка, де, применялась только в медном веке (который славяне не прошли) и в железном веке, а в бронзовом веке применялось только литье (Рыбаков 1981: 532). Но это неверно. Во-первых, бронзовые изделия с небольшой присадкой олова или его заменителей подвергались дополнительной проковке, во-вторых, в бронзовом веке целый ряд видов изделий (например, украшения) изготовлялись из чистой меди. Стал ли Перун еще у славян не только распорядителем, но и создателем медных небес (оказавшись главным богом) или это результат упрощения мифа при переходе в иную среду, трудно сказать. ВедьмыВ сообщениях о женщинах, которых Пиръон посылал на небо лить воду, воспроизводя дождь, скорее всего отразились рассказы о ведьмах и колдуньях. По этнографическим данным, как у германцев, так и у славян (Афанасьев 1851; 1969, III: 427-511; Токарев 1971; Новичкова 1995; Виноградова и Толстая 1995; Виноградова 2000: 230-270; Власова 2001: 60-72; ЪорЬевиЙ 1989) именно таким женщинам приписывалась власть над дождем и вообще над погодой, а с тем и над урожаем. Немецкое название для таких колдуний — «делательницы погоды» (Wettermacherinnen), «делательницы грозы» (Zessenmacherinnen), «молниевые ведьмы» (Blitzhexen). Средневековая охота за ведьмами, с судебными процессами против ведьм, пытками и казнями, развернувшаяся в эпоху Возрождения и особенно Реформации (Мишле 1997; Канторович 1899; Сперанский 1906; Рассел 2001), основана не столько на церковной реакции на опасные тенденции времени, сколько на массовом народном сознании, разбереженном религиозными войнами и стихийными бедствиями этой эпохи (Гуревич 1987). На Руси сведения о ведьмах содержатся уже в Начальном летописном своде (Смирнов 1909) и обильны в сочинениях последующих веков. Особенно сильными считались в народе киевские ведьмы. За повелениями своего властелина они слетались на Лысую гору, что на левом берегу Днепра, — туда, где когда-то стояли идолы богов (впрочем, Лысые горы, да и кумиры на них, были и в других местностях Руси). Иными словами, это были как бы низшие распорядители из ведомства бога-громовика, посредники между ним и людьми. В финских рунах колдун прямо аттестован «сыном бога-громовика Укко» (Афанасьев 1969, III, 442-443). Главные периоды активизации ведьм в России — Святки (конец декабря — начало января) и Купало (24 июня), т. е. солнцевороты (Афанасьев 1851: 107; Власова 2001: 64-65). Дальше мы увидим, какое значение эти дни имели в культе Перуна. У древних германцев ворожба считалась постыдной для мужчин, обвинение в ворожбе могло навеки опозорить мужчину и воспринималось как тяжелое и оскорбительное обвинение, означавшее, что мужчина обабился, утратил мужское достоинство (Grimm 1835: 559-560, 606, 1026, 1040-1042). Но обратиться к ворожее было не позором и для мужчины. По Фритьофсаге, сыновья конунга Бели наняли двух ведьм и те, поднявшись на утес, возбудили морскую бурю на погибель Фритьофу (Афанасьев 1869, III: 445). На Руси ворожбой не брезговали и мужчины. Все же русская летопись подчеркивает, что волхвованию предаются преимущественно женщины. Колдун назывался у восточных славян волхвом, колдунья, ведьма — волховью. «Паче же женами бесовская волъшвания бывають; искони бо бес жену прелсти, си же мужа; тако в си роди много волхвують жены чародейськи, и отравою и инеми бесовськыми козньми» (Смирнов 1909: 225). По сведениям этнографов, на Украине верили, что ведьмы могут скрадывать дождь с неба и держать его в завязанных крынках или бадьях (Афанасьев 1869, III: 449-450). Поэтому, когда дождь долго не орошал полей, крестьяне хватали баб, заподозренных в колдовстве, и устраивали им испытание водой: с камнем на шее топили на веревке в омуте и следили, потонет или нет. Тонувшую вытаскивали и оправдывали, а в непотопляемой опознавали ведьму, забивали ее насмерть и топили силой (Афанасьев 1869, III: 510; ср. Ефименко 1883; Канторович 1899). Предполагалось, что как земля не приемлет колдунов, так вода не приемлет ведьм (Успенский 1982: 82). В древней Руси происходило то же самое. Серапион, владимирский епископ XIII в., укорял паству: «Молитесь и чтите я (ведьм. — Л. К.), и дары приносите им, ать (пусть) строят мир, дождь пущають, тепло приводять, земли плодити велять...». Но и на смерть, продолжал епископ, осуждаете их без справедливого суда, без опроса свидетелй (послухов): «вы же воду послухом поставите, и глаголите: аще утопати начнеть — неповинна есть, аще ли попловеть — волховь есть» (Mansikka 1922). В мифологии европейских народов ведьмы ездят (или летают) верхом на помеле, метле, кочерге, на березовом полене, на песте, на улье (т. е. на бревне). Метла, помело, заметающие путь, Баба- Яга в ступе — яркие образы, но общим для всех этих «средств передвижения» является палка, жердь, которая и представляет основу средства. А в сердцевине этих представлений лежит не особое отличие ведьм, а магия, имевшая применение и вне одиозных деятельниц. Рассмотрев этнографические материалы, Б. П. Кербелайте (1996: 342-343) пришла к выводу, что эти рассказы отражают реальные магические действия в быту. Например, у русских был обряд, называемый «вьюнины»: группы женщин верхом на метлах объезжали те дома, в которых жили молодожены. На Украине для изгнания нечистой силы хозяйка дома, отстояв в церкви вечерю в Чистый четверг (страсти) и принеся домой горящую свечу, раздевалась догола и, сев верхом на помело, объезжала на нем магическим кругом дом и двор (Зеленин 1991: 392). В Литве женщина, пришедшая спросить, можно ли посылать сватов, подъезжала к столу на метле — этого было достаточно, чтобы хозяева поняли цель ее визита. Утром в праздник летнего солнцеворота (т. е. на Купалу) литовские женщины проезжали верхом на метлах по деревне и объезжали коров, чтобы те давали больше молока. Палку, на которой эти женщины ездили, они называли «конем». Название это, как полагает Кербелайте, имело в фольклоре эротическое значение и в переносном смысле означало фаллос. Так, в русских сказках девушка, с которой переспал герой сказки, посланный за молодильными яблокам, проснувшись говорит: «Ах, невежа приезжал, да в моем колодце своего коня напоил». В русской свадебной песне из Сибири «В подклеть идти» поется: Благослови, Хозяин-господин, Пролубку долбить, Каурку поить... Кербелайте предполагает синонимичность понятий 'древо' и 'конь' (1996: 346-347), но я бы мог к этому добавить и прямую связь понятий 'фаллос' и 'конь': на современном российском тюремном жаргоне «посадить на красного коня» или «посадить на кожаного коня» означает 'оттрахать', 'вы..ать' (собственные наблюдения). Ведьмам средневековые обвинители приписывали половые сношения с демоническими существами — инкубами. Так или иначе явная ассоциация езды женщин на палке-коне (то есть ведьм) с сексуальными действиями и брачной обрядностью налицо. Впоследствии будет рассмотрено, какое это может иметь значение для увязки ведьм с культом Перуна. Пока удовлетворимся этой, по правде сказать, еще очень слабой выявленностью данного аспекта: отдельные метафоры в узких, отдаленных друг от друга сферах... БочкиШироко распространено было поверье, что эти «жены чародейськи», сиречь волхови, ведьмы, летают в поднебесье, в колдовских целях льют из горшков и чаш воду, вызывая этим дождь, бросают в воду кремневые («громовые») стрелы, накликая этим молнии, и катают бочки, «разрыв которых производит грозу и бурю» (Афанасьев 1865, I: 581, 1869, III: 443). Катают бочки!- совсем как Пиръон на Кавказе. А Пиръон имел какую-то власть над женщинами, заставлял их подниматься на небо и лить оттуда воду. Таким образом, катание бочек привязано на Кавказе к Пиръону — Перуну, богу грозы, не случайно (разбивание, правда, не представлено в вайнахских текстах, но в европейской этнографии связано с катанием бочек). Эта привязка подкрепляется прямой связью бадьи с громовиком у ведийских ариев, при чем примечательно, что в данном случае этот громовик там не Индра, а его архаический прототип, тезка Перуна — Перкуна Парджанья. В гимнах Ригведы (1999: V, 83,8; VII, 101,4) молящиеся призывают Парджанью: Поднимай огромную бадью! Выливай (ее)! Пусть хлынут вперед выпущенные ручьи! Пропитай жиром землю и небо! Да будет хороший водопой для коров! На ком покоятся все существа, Три неба, (из кого) трояко струятся воды... — Три бочки для поливки Во все стороны льют по каплям обилие сладости. Разбивание бочек с колдовской целью «разрешения вод» не было прерогативой волховей (позднейших ведьм). Они, вероятно, пользовались своими чарами лишь для разовых поворотов погоды в нужную сторону — аномальных, так сказать, по спецзаказам, в нарушение естественного хода. Для обеспечения же нормального ежегодного «разрешения» небесных вод на весну и лето обряд совершали всем миром, видимо, в определенные календарные сроки. Обычай коллективного разбивания бочек сохранялся на Руси долго, и церковь рассматривала его не как безобидную забаву, а именно как языческий обряд. Под 1358 г. в Новгородской летописи записано обязательство отказаться от этого обычая: новгородцы «того же лета целоваша бочек не бити», а в Никоновской летописи (ПСРЛ, X: 230) текст более развернутый: «Того же лета новгородци утвердишась межи собою крестным целованием, чтоб им играния бесовскаго не любити и бочек не бити». И позже, при Иване Грозном, в 93-й главе «Стоглава» (1861: 264-267) порицаются игры и плясания «над бочками и корчагами». Рыбаков в примечании (1987: 689, прим. 72) отметил: «Обычай битья бочек не выяснен». Как выглядел этот обряд, мы можем себе представить по описанию аналогичного обряда в XIX в. у хорутан Зильской долины. В каждой деревне стояла на площади почитаемая липа; к дереву привешивали бочку; юнаки на конях скакали вокруг липы, стараясь на всем скаку попасть палицей в дно бочки, пока, наконец, бочка не рассыплется. А в это время остальные селяне пели обрядовые песни (Афанасьев 1865: 589).Палица — оружие, заменяющее в эпосе отживший боевой топор-молот (или булаву) бога-громовика (и в средневековой Индии ваджру стали изображать именно палицей). Тот факт, что бочку поднимали не на любой предмет, приближающий ее к небу (скажем, на крышу навеса, на перекладину качелей и т. п.), и не на любое дерево, а на особо выделенное, почитаемое дерево, побуждает подозревать, что это дерево рассматривали как воплощение «мирового дерева», связывающего землю с небом. У А. Н. Афанасьева (1865, I: 581) приведенное ведическое обращение к Парджанье рождает ассоциацию со славянскими выражениями «льет как из ведра», «лье як з бочю», и можно было бы сопоставить их с обрядом разбивания бочек, но выражения эти могут быть и простыми сравнениями (вполне естественными также без всякой мифологической подкладки), а в записях об обряде нет никаких указаний на то, что в бочках содержалась вода, хоть вряд ли такой любопытный факт избежал бы особого замечания информаторов. Значит, в смысловой мотивировке обряда он уже далеко отошел от непосредственной реализации симильной магии, либо воображаемый объект, высвобождаемый из бочки при разбивании, изначально мыслился иным — более широко и обобщенно представляющим природные стихии или вообще как-то иначе с ними связанным. Соответственно может выявиться и иное решение вопроса о связи этого мотива с Перуном. Для прояснения этого обстоятельства нужно расмотреть два ряда даных: а) что известно по фольклорным источникам культового происхождения (волшебные сказки) о содержании специально разбиваемых бочек; б) когда еще в обрядах полагалось высоко устанавливать бочки и вообще как-то использовать их в ритуале. Этому будут посвящены два следующих раздела. 2. «ЦАРЬ САЛТАН» И РУСАЛКИЦарица в бочкеВ русских сказках бочка фигурирует как сосуд, в который бедняк заключает своего злыдня (злую участь, недолю) или злыдней с целью от них избавиться. Он обманывает богача (вариант: богатого брата), из жадности тот добывает или открывает сосуд, и недоля мигом прицепляется к нему. От нее нельзя избавиться иначе, чем передав ее кому-нибудь — так как колдун не может перед смертью избавиться от своего тяжкого уменья (и не может умереть иначе), чем передав его кому-нибудь. Глубинный смысл этих поверий — в том, что различие участей, их неравенство, существование добрых долей и злых, легких и тяжких, извечно, и они не могут исчезнуть, могут лишь перераспределяться. Это старый мотив — он представлен в апокрифе о Соломоне, «како закопа беси в единой дельве (яме)». Истоки сюжета находят в талмудических и арабских притчах. Нас здесь интересует лишь восточнославянское оформление сюжета: бочка в качестве вместилища, она брошена в болото, злыдня подлавливают, защемив ему руки в расщепленном дубе (Сумцов 1913), дуб же — дерево Перуна. В указателе Арне — Андреева это мотив № 735 «Две доли», в Сравнительном Указателе Сюжетов —Разбивание бочки здесь не представлено, и в контексте данного исследования мотив «злыдней в бочке» интересен только как фольклорное свидетельство применения бочки в качестве средства избавиться от нежелательных субъектов. Ближе к нашей теме оказывается другой мотив — дети в бочке. Этнографически он представлен в Литве, где на Заговенье обливали водой девушек или подростков, которых в бочке возили по деревне (Кербелайте 1996: 344). Но мифологический вариант более популярен и разветвлен в русском фольклоре. У Н. П. Андреева этот мотив (№ 707) называется «Чудесные дети», в Сравнительном Указателе Сюжетов — 707 (СУС 1979). Он нередко соединен с мотивом (№ 675 по Арне — Андрееву) «По щучьему веленью». Суть сказки в том, что по колдовскому слову мужичка (тут и использован мотив «По щучьему веленью») царица забеременела в отсутствие царя (мотив чудесного зачатия). Она обвинена в прелюбодеянии, да еще ведовском — с невидимым «инкубом». По другим вариантам, царь не отсутствовал, но родилось необычное дитя — со знаками сверхъестественного происхождения: божественного (солнце во лбу, месяц на затылке, или по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре) или звериного (сходство с определенным животным в какой-то части тела). Последний вариант (звериный) у современных сказочников слабо использован; но по крайней мере так излагают дело царю завистливые старшие сестры царицы, которые тоже оказываются при царе (видимо, как старшие жены, что сильно удревняет весь сюжет). Обвиненную царицу на сносях или уже родившую (тогда вместе с сыном или 9 сыновьями) заключают в бочку, а бочку, засмолив, пускают по волнам. Царевич растет в бочке не по дням, а по часам. Сюжет использован Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». У Пушкина, как и в народной сказке, все оканчивается счастливо. Бочку прибило к берегу, царевич «вышиб дно и вышел вон». В конце концов царевич, вернувшись, опознан и воцаряется на отцовском троне. До Пушкина сказку использовали на Древнем Востоке и в Эгейском мире сочинители царских родословных — для обоснования законности власти некоторых узурпаторов (вроде Саргона и Персея): конструируя чудесное рождение, узурпатора представляли вернувшимся законым наследником трона (Аполлод., 2.4.4; Drews 1974). Е. Аничкова (1927) проделала «Опыт критического разбора происхождения Пушкинской сказки о царе Салтане». В качестве возможных источников она упоминает восточные сказки — бурятскую сказку о Шанхисе (Чингис-хане) и гуннские предания об Аттиле, в которых засмоленную бочку пускают по морю. Три сестры царицы взяты из «Тысячи и одной ночи», султан — из повести Чосера о Констанции, только в этой повести пускают по морю не бочку, а неуправляемый корабль. В русских допушкинских лубочных сборниках сказка об Амадусе отправляет героя в бочке по морю. В других русских сказках чудесные дети — близнецы. В одной из сказок фигурирует царь Салтан. Аничкова считает, что прозаическая запись сюжета пушкинской сказки о царе Салтане, сделанная самим поэтом и опубликованная Анненковым в числе сказок няни Пушкина Арины Родионовны, скорее всего является просто прозаическим переложением готовой пушкинской сказки или ее проектом. Среди сказок Арины Родионовны могла быть такая сказка, но данная запись слишком близка к стихотворению, а корни многих его мотивов прослежены вне русского фольклора. Записи истинных русских сказок начались только в середине XIX в., после Пушкина, и в них уже могут отразиться заимствования в фольклор из пушкинских текстов. Но в этих записях есть сказки о Бабе-Яге, которая обратила близнецов-царевичей в волчат и подменила их крестьянским сыном, а царь посадил жену с ребенком в бочку и пустил по морю. Выросши, крестьянский сын сумел обратить волчат в людей и помог разоблачить всю каверзу. Этот рассказ слишком далек от пушкинского текста, чтобы быть результатом фольклорного пересказа. Есть обрывки того же сюжета, вошедшие мотивами в другие сюжеты. Так, в сказке о Марье Моревне женщины в бочке нет. Убив царевича, змей положил его в смоленую бочку и бросил в море. Но прилетел орел, поднял бурю, и волны выбросили бочку на берег, сокол поднял бочку в поднебесье и бросил с высоты, чтобы она разбилась, а ворон принес живой воды и воскресил царевича к некой новой жизни. Но кем были прототипы героев сказки? Мог ли царевич спастись и вернуться? Какая реальность лежит в основе сказочного сюжета? Уже в завязке сюжета заключен ключ к разгадке. Героиня обвинена в прелюбодеянии. По нормам первобытного общества у ряда ближневосточных и индоевропейских народов это — преступление, каравшееся утоплением виновной женщины (мужчина имел право на внебрачные связи). По законам Хаммурапи (§ 143) замужнюю женщину, «если она не блюла себя, а выходила (изменяла мужу), дом свой разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду» (Волков 1914). Древние германцы навязывали изменившей жене камень на шею и со связанными руками бросали ее в болото (уже свыше 330 таких «болотных трупов» найдено археологами — см. Rehfeldt 1942; Struve 1967; Brothwell 1986). Так же, видимо, поступали и ахейцы: когда Аэропа до замужества вступила в любовную связь, ее отец Катрей хотел утопить ее; когда, выйдя замуж за Атрея, она изменила ему, он, как сказано у Софокла и Еврипида, повелел бросить ее в море (Roscher 1: 87). У славян такой способ наказания не засвидетельствован для обычной измены. Но в сказке представлена не обычная измена. Забеременев по колдовскому слову, царица заподозрена не в обычном прелюбодеянии, а в ведовском — в сношении с невидимым, сверхъестественным существом, духом, «инкубом», как определили бы его средневековые «охотники за ведьмами». В славянском фольклоре широко представлены сексуальные связи женщин с демоническими существами — оборотнем, домовым, вампиром, умершим мужем, летающим змеем (Виноградова 1996; Левкиевская 1996). Причисленный христианством к «нечистой силе», дух этот иначе воспринимался языческим сознанием (не делавшим такого четкого различения между чистым и нечистым духами), что и отражено в фольклорном освещении. Когда колдуна, напустившего «порчу» на царицу, спрашивают, его ли сын, ответ гласит: «Нет, божий!» (Афанасьев 1872, I: 167, 411). Какой бог предполагался отцом чудесных детей? Сказка об этом молчит, вот разве что число сыновей показательно: 9 сыновей у литовского Перкуна, 9 шагов делает перед смертью Тор, 9 клыков вепря вбито в священный дуб (находка 1975 г.), выловленный в Днепре, — несомненно один из Перуновых дубов; в другой, извлеченный из Десны (находка 1909 г.), вбито 4 челюсти молодых свиней квадратом (Болсуновский 1914; Козловська 1928; Ивакин 1979; 1981). Каждая из трех птиц, прилетавших к царевичу в сказке о Марье Моревне, появлялась сквозь потолок при звуке грома... Так или иначе, чудесные дети — дети бога. Это сюжет, близко родственный одному из основных мифов христианства — мифу о «непорочном зачатии». Тем не менее героиню трактовали (и с точки зрения позднейшего фольклорного сознания — несправедливо) явно как ведьму, а уж ведьмы-то, как мы видели, на Руси определенно были связаны с Перуном. При спуске героини в бочке на воду в одном из вариантов проскальзывает любопытная мотивировка: виновата — потонет, права — выплывет. Да ведь это типичная формула суда над «ведьмой», только перевернутая! А перевернутость вызвана тем, что вытягивать «оправданную» на веревке никак не возможно, потому что в основе сюжета не было оправдания — бочка уплывала по волнам насовсем, а «оправдание» приходило через воскрешение с того света в новом поколении, в ином воплощении. У многих первобытных народов рождение необычных детей — близнецов (в данном случае сразу 9 сыновей!), уродов, детей с необычными признаками, — воспринималось как результат вмешательства сверхъестественных существ (богов, демонов) и вызывало опасения. Нередко в подобных случаях и мать и младенцев изолировали от общества, удаляли, приносили в жертву богам (Штернберг 1936: 86-92, 143 - 158; Токарев 1964: 144-146). У древних индоариев, по Шатапатха-брахмане и Тайтирия-брахмане, полагалось жертвовать богу смерти Яме бесплодную женщину, а его сестре-близнецу Ями — двойню или женщину, которая рожает двойняшек (Гусева 1977: 127). У южных славян Зечевич (Зечевий 1973) выявляет в народных преданиях память об избавлении от внебрачных детей — отправлении их к божеству в качестве умилостивительных жертв с целью вымолить лучшую погоду, то есть о человеческом жертвоприношении. В то же время этих людей, столь явно отмеченных вниманием богов или демонов, нельзя было просто убить. С ними нередко поступали как с подлежащими удалению сакральными объектами. На Руси такие объекты (обветшавшие иконы и церковные книги, высохшие просфоры и т. п.) запрещалось выбрасывать или уничтожать. Их полагалось пустить вплавь по реке: так они приплывут в ирий, т. е. в рай (об этом рассказывает Олеарий; см. также>у Успенский 1982: 185; Агапкина 2002: 48-49). Есть и другая причина для предания ведьм воде — об этом ниже. Таким образом, в сказке, по сути, описано происхождение русалок. РусалкиРомантическое представление о русалке как прекрасной девушке с зелеными волосами и рыбьим хвостом вместо ног, резвящейся в воде и томно завлекающей юношу любовными призывами — это создание нового времени. Исконная русалка менее эстетична и более опасна. Молодыми и красивыми представляли русалок только в южнорусском регионе, возможно под западным (болгарским и польским) влиянием. В средней и севернорусской полосе по большинству народных описаний, русалки — голые отвратительные старухи, с распущенными волосами. Одним из распространенных признаков русалок в народном сознании являются длиннющие груди, которые русалки могут закидывать на спину (Дынин 1994; Виноградова 2000: 149-15). Они любят щекотать встреченного и могут защекотать насмерть. Само название (оно бытует только в России) образовалось очень поздно: зафиксировано только с XVIII в., с Татищева (Дынин 1994: 112, 114). Происходит оно от названия римского праздника розалий, который в свою очередь был назван так по розам, из которых плели венки. Видимо, пройдя через греческий (Византия) и румынский язык, розалии (греч. рогкнШа) превратились в русалии у южных славян. Праздник был посвящен покойным родственникам и приходился на позднюю весну — дни между Вознесеньем (Спасом) и Троицей назывались «русальской неделей» (Колева 1977: 290). В болгарских деревнях существовали дружины «русалъцев» во главе с «ватафином», колдуном. Звание это было наследственным, как и знание трав и зелий, связанных с русалками. Ватафин раздавал остальным русальцам жезлы — тоАги. Русальцы плясали столь бешено и неистово, что доходили до исступления и падали без чувств. Во всю русальскую неделю русальцам нельзя было ни креститься, ни молиться ни при каких обстоятельствах, чем подтверждается языческий характер этой обрядности (Маринов 1914, 1994). В Болгарии есть много мест, названных по русалиям: Русалийски проход, Русалийски лъг, Русалийска потека, Русалийско кладенче, Русалийски гробища (Панчовски 1993: 102). Название праздника «русалии» встречается в русских летописных памятниках XIII-XVI вв. Кирилл Туровский в XI в. в числе «злых и скверных дел» называет «плясанье, бубны, сопели, гусли, пискове, игранья неподобные, русалья». На Руси XII в. даже время поста определялось по этому языческому празднику: «...и по сошествии святаго духа, рекше по русалиих...» (Рыбаков 1987: 677). В Ростове в 1220 г. на основе греческого жития св. Нифонта было написано «Слово святого Нифонта о русалиях». Там описано, как Нифонт встретил на городской площади около церкви 12 русальцев, возглавляемых «унылым и дряхлым» старцем, а с ними был флейтист, который веселил народ, «скачя с сопельми и с ним идяше множество народа, послушающе его; инии же плясаху и пояху...». Святой Нифонт «бе одержим великою печалью о таковей погибели... и молишеся остати всем игр бесовъских, — наипаче же свое имение дают бесу лукавому, иже суть русалия иние же скоморохом» (Гальковский 1913: 264-267). Изборник XIII в. поучает верующего: «Егда играют русалия ли скомороси, ли пьянице кличють... или како сборище идольских игр — ты же в тъ час пребуди дома!» (Срезневский 1958: 157; Рыбаков 1987: 677, 690). «Но в Киевской церкви Спаса на Берестове обнаружена надпись того же времени, процарапанная на стене: «Дьяконъ свтго Спса приде на позоръ (зрелище) русалиеми» (Высоцкий 1985: 75-76, табл. XXXVI, рис. 358). Еще в XVIII в. продавались литые образки св. Нифонта с надписью: «Проклять всякъ, иже кто оставит церковь божию и последуеть русалиямъ» (Рыбаков 1887: 690-691). В русальских плясках участвовали и женщины в ритуальной одежде со спущенными длинными рукавами. В Болгарии во время купальской обрядности девушка размахивала такими рукавами, как птица крыльями. На древнерусских изображениях Рыбаков выявил целую серию плясуний со спущенными рукавами, а этнография предоставила женский костюм с длинными до щиколоток рукавами (Рыбаков 1987: 691-741). Как полагают многие ученые, участниц весенне-летнего празднества, украшающих себя цветами и ветками, и стали называть русалиями, а в России XVIII в.— русалками (Nilsson 1914: 1115; Mikloschich 1864; Веселовский 1889: 261-287; Шелов и Златковская 1978; Златковская 1978; 1984). Тогда не совсем ясно, как это название перешло с участниц на духов женского пола, ради которых эти торжества устраивались. К тому же в засвидетельствованной терминологии русальцами назывались как раз мужчины, а русалиями — сами праздники. Представления о русалках широко распространены, но в восточнославянских областях этот контингент имел специфический характер (Померанцева 1975а: 68-91; Соколова 1979: 213-223; Виноградова 2000: 141-229). Тут их называли не только русалками, но и водяницами, шутовками, куполками, лоскотухами (т. е. щекотуньями), а название «русалки» часто и не знали. Зеленин даже считал, что кроме названия вряд ли что-либо перешло от русалий, поминального праздника цветов, к русалкам — это совершенно другое явление. Того же мнения были и Златковская и Померанцева. По их представлениям, заимствованный термин наложился на местную обрядность и на ранние представления славян о женских водяных, лесных и полевых духах, которые активизировались во время русалий. С точки зрения Дынина, большая вариативность образа говорит за то, что русалки — вообще недавнее образование, что какие- либо существа, похожие на нынешние образы русалок, отсутствуют в древнеславянской мифологии. Там женскими духами были берегини, но это лихорадки (27 сестер); были вилы (в Болгарии самовилы), но это крылатые девы. По болгарским поверьям, это были женские существа, очень красивые, с длинными косами и крыльями. От них зависело ниспослание дождя и плодородие нив. Ближе русалки к полудницам, наличным у всех славян и скрывающимся во ржи. Они укрывают травы и хлеба от сожжения солнцем, но не обладают многими особенностями русалок. Как показал Д. К. Зеленин, русалками, по восточнославянским народным представлениям, становились молодые утопленницы и умершие некрещеными дети (последние превращались в особую разновидность русалок — мавки). Те и другие принадлежат к числу «заложных» покойников — умерших не своей смертью (утопленники, опойцы, убитые, замерзшие, самоубийцы, мертво- рожденые дети и т. п.). Считалось, что не прожив отпущенный им срок, они завидуют людям и особенно опасны. Хоронить их надо отдельно и не в земле (Зеленин 1911; 1916; 1917). Умершие колдуны и колдуньи тоже относятся к заложным покойникам, но исследователи обычно редко отграничивали ведьм от русалок, впрочем, и в народе их кое-где объединяли. В Зарайском уезде женщина, представлявшая в русальный вечер русалку, выезжала верхом на кочерге и с помелом через плечо (Шейн 1898, 1: 367). В. К. Соколова (1979: 216) считает это позднейшей деформацией образа, путаницей в эпоху распада мифологической системы, и, может быть, она права в отношении таких локальных случаев смешивания признаков. Но сама же она отмечает, что неизменным признаком русалок всегда и везде остаются распущенные волосы, а распускание волос — это непременное условие колдовства, и распущенные волосы — признак колдуньи, ведьмы (Афанасьев 1869, III: 466, 484; Цейтлин 1912: 12; Гаген-Торн 1933: 82). В Пинском Полесье русалку представляют сидящей в жите с толкачем, пральником или кочергой в руках. Она может затолкать человека в ступу и затолочь его толкачем (Виноградова 2000: 149). Эти аксессуары (толкач и ступа) сближают ее с Бабой-Ягой, а кочерга — опять же с ведьмой. Однако Л. Н. Виноградова в своем большом труде «Народная демонология» (2000) в главе «Цветочное имя русалки» (2000: 195-219) показала, что от древних русалий к русалкам перешло не только имя и не только элементы поминальной обрядности. Л. Н. Виноградова (2000: 144) подчеркивает, что одна из важнейших особенностей русалки — сезонность ее появления и исчезновения. «Ни об одном из демонологических персонажей восточнославянской традиции не говорилось с такой определенностью, что время их пребывания на земле строго ограничено». Русалки появлялись из воды на Троицу (или в Семик) и лезли на деревья или скрывались в житном поле, а исчезали или «выпроваживались» в последний день Русальной недели или с началом Петрова поста, реже — накануне Ивана Купалы. Это «вождение русалки» или «проводы русалки». Через воду (реку, море) или высокие деревья они возвращались на тот свет, в могилки (Виноградова 2000: 154-156). Активность русалок —это период цветения злаков и цветов. По представлениям на Волыни, «Во время цветения жита нельзя стирать и прясть — это праздник русалок». В Черниговской губернии считали: «Нельзя ткать и белить полотна во время цветения жита, чтобы не навлечь на хлеб грозы и града». Если принять соображения Виноградовой о сугубой сезонности русалок, тогда появляется возможность объяснить переход названия с русалий на русалок: русалки появляются как раз в русальскую неделю, названную по русалиям. «Оплакивание русалки» Виноградова сопоставляет с троицким весенним обычаем оплакивания травы, с выражением «плакать на цветы» у Есенина, поскольку существовало поверье, что души покойников прорастают из земли с первой зеленью, вселяются в цветы, а когда цветы и зелень сохнут, души снова уходят на тот свет. Это поверье было распространено и в Болгарии, через которую русалии пришли к восточным славянам. В Болгарии верили, что с Великого четверга до послетроицкого понедельника души умерших выпускаются с того света на свободу и бросаются к цветам на деревья, а после Русальной недели возвращаются на тот свет. В Духов день, перед своим уходом, они могут пообщаться с живыми на прощанье. Стоит в этот день приложить ухо к кладбищенской земле, и будет слышно, как души «жужжат, словно пчелы» (2000: 206). Виноградова поясняет дополнительно (2000: 205), почему из заложных именно молодые девушки становятся русалками. Для этого исследовательница привлекла записанное Мошиньским на Карпатах поверье, что тело и душа старика в могиле сгнивают, а у молодой девушки подвергается тлению только тело, душа же ее продолжает цвести и переходит в цветы на могиле. Русалки и сказкаВ народных представлениях о заложных покойниках вообще и русалках в частности есть ряд загадочных обстоятельств, которые как раз предложенная трактовка сказки, возможно, поможет объяснить. 1. Прежде всего, не понятна двойственность отношения к заложным. С одной стороны, их ненавидят и боятся, с другой — их чтят, ублажают и ждут от них помощи. Почему их боятся, Зеленин объяснил (не дожили свой срок), но почему их чтят? Очевидно, за заложными изначально признавалась некая особая связь с божеством, придававшая им влиятельность и силу. Это непосредственно явствует в отнесении умерших колдунов к заложным, но и прочие заложные также воспринимаются получившими схожий статус. Само выражение «не своей смертью» показывает, что преждевременная, неожиданная смерть воспринималась как результат специального вмешательства потусторонней и могущественной силы — богов: боги затребовали к себе данного человека, взяли его как жертву. Между тем, известно, что люди, приносимые в жертву, рассматривались как посланцы к богу, ходатаи и заступники за оставшихся жить. В сказке о «чудесных детях» подчеркнут именно момент богоизбранности, жертвенности будущих русалок, их причастность к колдовству. В Сербии, когда умирал первенец, родители шли в круг танцевать. В Далмации этот обычай получил христианское толкование: «после смерти младенца совершался обряд радоваъе: родители с соседями радовались тому, что со смертью ребенка семья получила заступника на небесах в виде ангелочка» (Толстой 19956: 347). 2. Камнем преткновения для исследователей культа русалок была функциональная сложность и их образа — двойственность или даже тройственность: с одной стороны, водные существа, способные увлечь неосторожных на дно, с другой — прячутся в лесу, качаются на ветвях, убегают в хлебное поле, с третьей, их праздник — в Семик, на поминках заложных. Русалки — это духи растительности, считал В. Мангардт (Mannhardt 1868). Русалки — прежде всего существа водяные, решил В. Я. Пропп (1963: 78), и это мнение поддерживает В. К. Соколова (1979: 221). Русалки — это души заложных покойников, вот что главное, — заявлял Д. К. Зеленин, — они происходят «от женщин и детей, умерших преждевременно неестественной смертью» (1916: 209, 278). Хотя последнее и «хорошо показано» Зелениным, все же и его вывод оказывается односторонним, — счел С. А. Токарев, — ибо такой исключительной идентификации противоречит и само название, заимствованное от греко-римской аграрной обрядности (rosalia — праздник роз), и «совершенно бесспорная связь» русалок со стихиями — водной и растительной (1957: 94). Сопоставления Виноградовой частично сняли это противоречие, объяснив смысловую связь явлений, но оставили неясным механизм возникновения этой связи. Черты ведьмы в прообразе русалки позволяют объяснить и этот механизм. Все увязывается воедино. Теперь понятно, что все это — проявления одной и той же подведомственности Перуну. На «русальной неделе» пели песню о русалочках-земляночках, которые на дуб лезли, кору грызли (Соколова 1979: 215), «на дуб лезли, свалилися, забилися» — поется в песне (Гальковский 1916: 63), а дуб — дерево Перуна. В некоторых местностях считали, что русалки появляются из воды около Великого Четверга, а четверг Троицкой недели назывался «Русальчин Великдень» (Афанасьев 1969, III: 141; Пропп 1963: 78). Четверг же, как уже отмечено выше,—день Перуна. На русальских праздниках в Болгарии, сообщает Державин (1929: И), русальцы — исполнители обрядов ублажения русалок — используют при этом кроме других трав и злаков перунику (iris germanica), называемую у сербов «богишей» — от слова «бог» (у нас это растение называется «касатки», «петушок»). 3. Далее, необъясненным в культе заложных оставалось их особое и исключительное воздействие на плодородие почвы через власть над погодой. Странной представлялась повсеместная убежденность в том, что нарушение запретов на захоронение заложных в земле грозит не какими-либо иными невзгодами (любыми — скажем, недородом, наводнением, болезнями, саранчой) а только одним — засухой. «По нашей губернии все знают, — говорили саратовские крестьяне, — что коли засуху бог послал, стало надо какого ни на есть опойцу вырыть из земли и бросить в болото или в воду» (Зеленин 1916: 69). Русскому Северу засуха не грозит, и там вообще нет этого суеверия: других наказаний, кроме засухи, за это нарушение не предусмотрено. Это говорит о том, что блюстителем этой нормы и патроном заложных считался не какой-либо иной бог, а именно повелитель погоды, хозяин дождей — Перун, местом же, куда полагалось посылать требуемых ему людей, были земные воды — реки и болота. Это не лишено логики: они ведь наполняются дождями. К тому же земные воды служат в индоевропейских мифах средством успокоения (охлаждения) громовержца. У осетин раскаленному Батрадзу, олицетворяющему молнию, подставляют котлы с водой, и у многих народов принято ставить в доме воду во время грозы, чтобы уловить молнию и тем предотвратить пожар (Дюмезиль 1976: 60). Неслучайно в Литве именем Перкуна обозначают не только возвышенности, но и водоемы — оз. Перкунье, р. Перкуния (Иванов и Топоров 19746: 147). Отсюда же и славянская Перуня Рень (мель) на Днепре, которой в летописи приискано явно анекдотическое объяснение (застрял идол Перуна, сплавленный из Киева). Вспомним, что именно на острове (Св. Георгия, т. е. на о. Хортица) стояли священные дубы (явно Перуновы), которым, согласно Константину Багрянородному, русы приносили жертвы, спускаясь по Днепру. Вспомним также, что новгбродская Перынь, где было святилище Перуна, представляет собой невысокий округлый полуостров, почти остров, на Волхове, у его выхода из озера. Ведьм, распоряжавшихся погодой и, выходит, являвшихся как бы жрицами Перуна, полагалось топить. Выдавая в сюжете «паря Салтана» рудименты «суда над ведьмой», «похорон ведьмы» (чудесное зачатие, утопление, связь с бочкой, формула «оправдания»), сказка помогает понять власть русалок над погодой и плодородием земли. 4. В последнее время, сравнивая русальские празднества, как они совершаются в разных местах славянского ареала, исследователи все больше и больше отмечают не просто их нацеленность на изменение погоды, но специально (и это особенно ясно выступает на Дунае) на вызывание дождя (Державин 1929: 255; Рыбаков 1967: 101; 1981: 188, 255, 525), а ведь это как раз основная специальность ведьм! На Дунае русалок заклинают оросить поля. А вот белорусская песня: Сядзиць купалка на плоце, Уся яе галоука у злоце, Ды просиць у Бога пагоды... (Зеленин 1916: 114) В Болгарии и других южнославянских странах есть специальные обряды вызывания дождя, исполняемые в случае длительного бездождья в период с 23 апреля до 29 июня, т. е. тогда же, когда и русалии. Обряды эти не привязаны специально к русальским празднествам и соответственно исполнительницы, юные девушки, не называются русалками, но они выряжены именно под этот образ. Эти девушки (их называют додолами или дундулами) раздеты догола, простоволосы и вместо одежды обвешаны ветками, травами и цветами. Они ходят по селу и полям, и женщины окачивают их с ног до головы водой. При обходе додолы поют песни о пеперуде, пеперуге или пеперуне (Державин 1929: 41-58; Рыбаков 1981: 188, фото на с. 209). Слово это филологи (Якобсон 1970; Иванов и Топоров 19746: 148; Гиндин 1981: 87) не очень корректно связывают с именем Перуна (якобы экспрессивное удвоение части корня). На деле «пеперуна» — это «бабочка», и слово соответствует не славянскому «перун», а латинскому papilio, франц. papillon, греч. цецелб, рум. papaluga, и русское «бабочка» — вероятно, первоначально «бабуля» из «папиля» (с переосмыслением в духе народной этимологии). В настенных росписях пещеры Магура неподалеку от Видина, датируемых неопределенно (от неолита до железного века), есть изображение девушки с поднятыми руками и с крылышками бабочки, отходящими от талии (видимо, душа), а рядом итифаллическое изображение то ли обращенного к ней подобия человека, то ли топора-молота (бог?) (рис. 29).
Рис. 29. Изображение пеперуды (?) и итифаллического бога (?) в настенных росписях пещеры Магура в Болгарии (по Георгиеву — Georgiev, 1982, Abb. 2,1) Бабочки у славян принимались за души покойников или действующих демонов (Терновская 1989). Румынские дети пели при засухе: Папалуга! взойди на небо, отвори ворота и пошли сверху дождь, чтобы хорошо росли хлеба. (Афанасьев 1869, III: 177) Похожую песню наши дети обращают к божьей коровке. А слово «додола» (или «Дудула») те же филологи предположительно связывают с литовским эпитетом бога грома Дундулис (от обозначения громыхания). Но связи с Перуном ясны и без столь гипотетических увязок: в тексте песни додол Перун прямо назван. Они поют: Пеперуда злата из воды се мята (мечется из воды). И: Пипируда злата пред Перуна лята (летает перед Перуном). Лята и пролята, По поле се мята И богу се моли: Дай боже дъждец! Песня была записана Раковским, но некоторые считали ее мистификацией. Йордан Иванов (1904: 14-15) съездил в начале XX в. в ту местность, где Раковский записал эту песню и обнаружил ее в живом бытовании, но без строчки о Перуне. Сомнительно, чтобы вся мистификация состояла во внесении Перуна, просто Иванов нашел ее в другом варианте. Как показал Б. А. Успенский, русалки ассоциируются с кукушками. Характерный возглас русалки: «Ку-ку!» (Афанасьев 1869, III: 123). Считалось, что кукушки должны куковать до Петрова дня (29 июня) (Успенский 1982: 147). Но именно до этого дня русалки могут обитать в лесу, не возвращаясь в воду (Пропп 1963: 78; Успенский 1982: 147). Возможно, когда-то верили, что в лесу русалки оборачиваются кукушками. Отмечено поверье, что кукушка связана с ирьем (раем) — у нее ключи от него (Рыбаков 1981: 276; Успенский 1982: 147). Ее трактовали вдовой — чучелу птицы надевали черный платок (Кедрина 1912: 102; Соколова 1979: рис. на с. 201). По-сербски «кука» — значит: «оплакивает». Ярославна в «Слове о полку Игореве», полагая, что потеряла мужа, горько «кычет зегзицею» (кукует кукушкой) на городской стене. Связь кукушки с миром мертвых и судьбой выражена повсеместным русским поверьем, что своим кукованием кукушка может ответить на вопрос, сколько лет человеку осталось жить. Между тем, кукушка у индусов — птица Индры, у германцев — Тора, у греков Зевс появляется в образе кукушки. Все это громовержцы. У чехов кукушка своим кукованием прогоняет бурю или град (Афанасьев 1869, III: 686-689). Цветок (orchis), который болгары называют (наряду с iris germanica) перуникой, у русских называется «кукушкины слезки» (Державин 1929: И). Очевидно, и у славян кукушка была птицей громовика-Перуна. Это тоже связывает русалок с Перуном. В России на «Зеленые Святки» (Семик и Троицу), когда, по поверьям, русалки выходят из воды на целую неделю, завивали березку и в Саратовском уезде на срубленное и поставленное во дворе деревцо одна из девушек опрокидывала горшок с водой (Соколова 1979: 193). Истолкование героини прототипной сказки о царе Салтане как утопляемой ведьмы, «делательницы дождя», придает всем этим наблюдениям значение и четкий смысл. 5. Загадочным, хотя это никем и не отмечено, оставался выбор основных категорий заложных для обращения их в русалки. У Зеленина убедительно показано, что в основном русалками становятся только два вида заложных: молодые утопленницы и дети, мертворожденные или умершие некрещеными. Но оставлено без объяснения, чем мотивирован отбор именно этих двух видов из всех видов заложных и что позволило объединить их (весьма несхожих) в одну категорию демонических существ. Ведь мертворожденные дети не ближе к девушкам-утопленницам, чем, скажем, утонувшие старухи, или юноши-утопленники, или девушки-самоубийцы (висельницы). Сказочный сюжет, условно называемый здесь «Царь Салтан» («Чудесные дети»), позволяет выявить основу объединения. Эта основа — норматив опознания связанной с Перуном ведьмы в молодой женщине, заподозренной в зачатии от бога (из-за рождения урода или близнецов и т. п.), и обряд (обычай) сплавления или утопления ее вместе с ребенком (детьми). Живая ведьма такого высокого ранга (отсюда именование ее царицей) была способна задержать для всей страны дожди. Погребение ее в земле могло рассердить Перуна и также вызвать засуху. Оставалось избавиться от ведьмы, сплавив ее по воде к Перуну. Кстати, в русском разговорном языке до сих пор слово «сплавить» имеет переносный смысл: «избавиться». Очевидно, такого рода жертвы и стали первыми русалками. В сказке отмечена враждебность по отношению к героине ее сестер и их ведущая роль в ее устранении из жизни. Возможно, это отражает какую-то реальную обрядовую активность женщин в выявлении и наказании подобных ведьм и сказывается в том, что русалки, как обычно отмечается (Токарев 1964: 88), не любят женщин. Какую-то роль в этом жестоком обряде, вероятно, играла полынь. Жертву перед утоплением стегали полынью, приговаривая при этом: «Сгинь!». По поверьям, русалки боятся полыни и если на вопрос о том, какое растение девушка принесла с собой на берег, ответить «Полынь!», то русалка откликнется возгласом: «Сама ты сгинь!» — и скроется (Зеленин 1916: 135-136; Соколова 1979: 214-215). Характерно, что полыни боятся одинаково русалки и ведьмы (Соколова 1979: 231). У белорусов в Купальскую ночь к костру приходила за огнем самая старая в деревне женщина, видимо, имитирующая ведьму. Она брала у молодежи огонь, после чего ее гнали ударами полыни, пока не скроется из виду (Шейн 1887: 216). Однако, как уже сказано, отношение к заложным покойникам было двойственным: с одной стороны, их опасались и сторонились, с другой — задабривали, уповая на их помощь. Более того, культ их был даже более важным, насыщенным и развернутым, чем культ своих «дедов», «родителей» — покойных умерших предков. «Дедов» не молили о помощи и защите (Токарев 1957: 38); по крайней мере, таких обрядов не сохранилось. Поминали «дедов» скромно — дома, в узком семейном кругу, ночью, в молчании. Эти поминки по своим устраивали в Дмитриевскую субботу и в памятные годовщины смерти. Заложных же хоронили единожды в год (всех накопившихся сразу) и поминали на Фоминой неделе, в Семик и Троицу. Эти поминки справляли всем селом, в дневное время, с пьянством и бурным разгулом (Зеленин 1916: 98-110; 1917). Календарные сроки поминания, характер обрядов и античные аналогии позволили Проппу (1963: 22-23) заключить, что целью поминок было не что иное, как обеспечение урожайности земли, доступное мертвым благодаря их пребыванию в ней. Но в земле пребывают все покойники, а не только заложные. Роль заложных Пропп не выделял особо, между тем, она объяснима из их отмеченности богами. Заложные, взятые Перуном, выделялись из прочих, но и к ним было отношение двояким. Мужчина, погибший «от грома», считался праведным, попавшим сразу в царствие небесное (Moszycski 1967-1968: 486, 733, mapa 3; Успенский 1982: 40-41). Такую смерть даже призывали как особую благодать: «Ах, дай божа, каб мяне пярун забив, а жонка каб с роду померла! Щастливый ба быв я чаловек!» (Романов 1891: 156). В XVI в. тело убитого молнией на пашне мальчика Артемия было сначала положено «на пусте месте, в лесе ... верх земли, не погребено, одаль церкви», «понеже тех убьенных громом или молниею гнушаются», но в то же время разнесся слух о его святой силе, и вскоре этот заложный пользовался таким все возрастающим народным почитанием, что в 1639 г. церковь канонизировала его как святого — цитаты взяты из его «Жития» (Успенский 1982: 41). В пораженной же громом женщине видели разоблаченную грешницу (Успенский 1982: 41, прим. 24). Так что жене смерти от молнии не желали. Угодных ему женщин Перун забирал не с помощью метания молний, а иначе — через одарение необычным потомством (утопление было следствием), а то и непосредственно утоплением. Такие женщины тоже должны были, оказавшись приближенными к богу, ведавшему погодой, получить влиятельность в этом вопросе. Но ожидать благодеяний от насильно утопленной ведьмы трудно, a вот направить ее влияние в нужную сторону необходимо. Отсюда заклинательный характер русальной обрядности, отсюда пронизывающая ее смесь интонаций заискивания, страха и угрозы. Все же русалкам и жертвы приносили, вешали на ветках пряжу, полотенца, рубашки и венки. Вождение русалкиБлагодаря собственной среде обитания русалки обрели несколько иной облик, чем их прототипы, ведьмы, и статус особых демонических существ, отделенных от ведьм, так что границы этой исходной категории демонов подразмылись. Коль скоро же русалки стали важной силой, стимулирующей плодородие полей, началось пополнение их рядов. Прежде всего сюда вошла смежная категория заложных — молодые утопленницы (пусть и не имевшие детей). Кроме того, возможно, были случаи специального жертвоприношения таких девушек путем утопления, потому что свежая и специально предназначенная жертва угоднее богам, а жертвуемые люди рассматривались у славян (и не только у них) как посланцы, способные надежно передать просьбы людей (Чайкановип 1924: 25-36; Велецкая 1978: 29-30). Геродот (ГУ, 94) подробно переложил такие представления гетов: «Каждые пять лет геты посылают Салмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время». Избранного убивают. В России до недавнего времени вкладывали покойному в руку письмо '(«пропуск», «подорожную») на тот свет к Св. Николаю (Успенский 1982: 122-124). У многих народов ритуально умерщвленные сородичи считались заступниками перед божеством (Зеленин 1935: 64-65; Велецкая 1978: 29-30). Еще Срезневский (1848: 95) заметил, что по формам обряда, содержанию и целям языческое трупосожжение у ранних славян приближается к жертвоприношению. У многих индоевропейских народов, в том числе славян, по преданиям, существовал обычай, который требовал умерщвления родителей — отправки их к богу, не дожидаясь, пока они станут немощными и дряхлыми: такие не смогут помочь с того света, (Велецкая 1978: 46, 61-66). Римляне, по Флакку, некогда сбрасы-1 вали шестидесятилетних стариков с моста (Каллаш 1889: 136-137)/ У сербов среди нескольких способов умерщвлять отмечен и такой: старика сажали в бочку и накрывали войлоком (Филиповип 1967: 270). У восточных славян чаще спускали на лубке в овраг, иногда (особенно в случае засухи) топили (Велецкая 1978: 49-51, 56), от чего, вероятно, остался обычай «купать стариков» по достижении 60 лет (Велецкая 1978: 158). Здесь нужно ввести существенную оговорку. Предания действительно чрезвычайно широко распространены по всему миру. В специальных работах, посвященных этому обычаю (Каллаш 1889; Штернберг 1902/1933; Зеленин 1937), этнографы рассуждают о причинах, которые могли его породить (тяготы кочевого образа жизни, скудость ресурсов и т. п.). Но обычай противоречит общеизвестному засилью стариков в первобытных общинах — геронтократии. Кроме того, как отметил Кисляков (1970: 78), «этнографы не смогли зафиксировать убиения или обречения на гибель стариков как обычая даже у самых примитивных народов». Кисляков считает, что если этот обычай и существовал, то в очень отдаленном прошлом. В этом контексте живая память об этом обычае у европейцев, в частности у славян, как это реконструирует Велецкая, представляется совершенно невероятной. Предания, надо думать, сложились из нескольких источников. Во-первых, это отдельные случаи убийства, действительно происходившие, но не во исполнение обычая. Во-вторых, это байки о жестокости молодых и их каре за это, рассказываемые в назидание самими стариками. Bo-третьих, и в основном, это ритуальные убийства стариков, либо из-за того, что их одряхление (это относится к жрецам и властителям) помешало исполнению ими важных магических функций (как установил Фрэзер), либо в качестве жертвоприношения. Если можно было вызвать дожди, отправив человека на тот свет (в жертву богам) путем утопления, то, по логике, возможен и обратный эффект: случайно утонувший человек, вовсе не предназначавшийся сородичами в жертву, мог и нехотя вызвать ненужные атмосферные осадки. Так оно и есть — в Герцеговине записано: «Когда падает большой град, то это знак, что утонул человек или в селе где-то есть удавленное некрещеное (внебрачное) дитя. Чтобы перестал град, призывают «утопленника» из своего села, чтобы он молился богу, да прекратится эта стихия» (ФилиповиЬ 1967: 274). Отбор, вероятно, в известной мере обусловлен составом русалок: утопленницы и умершие некрещеными дети. I Человеческие жертвоприношения у древних славян документированы, причем часто богам приносили в жертву пленных (Фаминцын 1884: 22, 47-50; Аничков 1914: 272). По Прокопию (1950: 240), франки, победив готов в 539 г., бросили женщин и детей побежденных в реку как жертву богам. Подобный способ известен и у славян Святослава. Лев Диакон (IX, 6) сообщает, что в Доростоле, хороня ночью своих воинов, славяне закололи над погребальным костом много пленников и женщин, а потом погрузили в воды Истра (Дуная) младенцев и петухов, так умертвив их. Жертвенное утопление женщин совершалось в России и позже, реально или в романтическом воображении, уже теряя прежний четкий смысл, — вплоть до легендарной персидской княжны, якобы брошенной Стенькой Разиным «в набежавшую волну». С этой традицией, несомненно, связаны календарные обряды «проводов русалки» и «крещения кукушки», отмечавшиеся у восточных славян еще недавно. «Вождение русалки», или «проводы русалки», «похороны русалки», «оплакивание русалки» (кроме указанных работ о русалках см. также: Гринкова 1947; Евсеев 1983), — основная часть русальской обрядности (рис. 30). В Белоруссии девушку, которая изображала русалку (почти без одежды, с распущенными волосами, в венке), сталкивали в жито и убегали с криком «Втекайма от русалки». В других местах примерно то же проделывали с соломенным чучелом (Соколова 1979: 213-217). Русские верили, что где резвились русалки, там трава и хлебы растут гуще (Токарев 1957: 93). В Южной и Центральной России девушки и молодые женщины, изображавшие русалок, переодевались в мужскую одежду, парни—в женскую, и прятались во ржи. Переодеванием такого рода нередко символизируется существование на том свете, где все наоборот (Пропп 1946: 52-53; Виноградова 1995: 373-374). «Русалки» ловили и щекотали молодежь. В Рязанкой губернии целую неделю девушки, изображавшие русалок, пугали по ночам людей, а в ночь на Петрово Заговенье жители вооружались палками, косами, кнутами и изгоняли «русалок». Чаще их провожали с почетом.
Рис. 30. «Вождение русалки» в с. Оськино Воронежской губ. — славянский обряд. Фото в Муз. Этнографии народов России. По книге Соколовой 1979: 221, рис.) Где русалку представляло чучело, его носили по улицам, водили вокруг него хоровод, затем разделившись на два отряда, боролись за него, наконец, разрывали и разбрасывали по полю или клали в гроб, имитировали похоронную процессию и бросали гроб в реку, привязав к нему камень (Соколова 1979: 217-220). В Поволжье чучело русалки делали в виде лошади (образ коня связан с культом воды). Ряжение, вероятно, имело еще одну функцию — смехом магически преодолевать смерть (Чайканови!) 1924; Пропп 1963: 100- 104). Ту же функцию имело и щекотание — характерная забава русалок. Нередко в течение проводов били в тазы, звенели колокольчиками, гремели тещотками, стреляли из ружей. Такой шум обычно применялся для отпугивания заложных. У южных славян мужчины-русальцы ходили с музыкой и танцами из села в село, чествуя русалок, готовых напоить водой поля. Таким образом, здесь налицо элементы разных культовых практик — и культа воды, и заложных, и аграрная магия. Выше уже говорилось об особых балканских шествиях, в которых додолы, напоминающие самих русалок, вызывали дождь. В этих обрядах тоже хоронили небольшую антропоморфную фигурку, но мужскую. У болгар и сербов она называлась Германом (Костов 1913; Генчев 1973; Зечевий; 1976; Беновска 1981; Попов 1989), у румын — Калояном, у молдаван — Трояном. Имя Герман взято от Св. Германа, епископа III в., Троян — это римский император- завоеватель, оставивший по себе память на Балканах, Калоян — это греческая фольклорная титулатура Иоанна Крестителя (русского Ивана Купалы) — Калос Ян (прекрасный Иоанн). Кукла из глины величиной около полуметра обязательно изготовляется с заметным половым членом, зачастую преувеличенных размеров (рис. 31). Приводится объяснение: «Надо, чтобы показывал, откуда появятся тучи: они придут оттуда, куда смотрит его шапка, и будут двигаться туда, куда смотрит его член» (Толстой 19956: 499).
Рис. 31. Глиняные изваяния Германа из Болгарии, и их аналогии 1-3, 5 — Луковитско; 4 — °азградско; 6 — Ольденбург (Германия); 7 — Белград (музей); 8 — Добруджа; 9 — мотив с каменного рельефа V-VII Пикуза (Украина). По Чаусидису Приносят ему иногда и жертву: закапывают у него в головах черную курицу (Кабакова и Седакова 1995: 500). Это показывает, что под разными святыми и историческими именами скрывается некий языческий персонаж, один и тот же. На «похоронах» румыны пели песню: ... Калоян, Ян — Иди на небо и попроси, Чтобы выросли ворота, Чтобы освободились дожди, Чтобы струились ручьи Дни и ночи, Чтобы росли хлеба. (Зеленчук и Попович 1976: 197-198) Соответственно болгары: Ой, Германе, Германе! Умрел Герман од суша за киша (Умер Герман от засухи за дождь). (Костов 1913; ЗечевиЬ 1981: 51-61) Велецкая (1978: 79-139) считает, что во всех таких похоронах имитируется реальное прежде человеческое жертвоприношение: чучело или кукла подменяют человека подобно тому, как это имело место у римлян, где, по Флакку, уже с древности вместо людей с моста стали сбрасывать чучела. В пользу этого решения она приводит ряд аргументов. Слабее аргументирована ее убежденность, что во всех этих и подобных обрядах повторяются именно коллективные проводы живых стариков-родителей на тот свет. В частности, как раз русальская обрядность в России и на Балканах далека от этого. Жертвуемый персонаж молод. Либо здесь повторяются в ослабленном виде те жертвоприношения, которые пополняли ряды первоначальных русалок новыми посланцами к богу за дождем, либо ради изгнания русалок, выполнивших свою ежегодную функцию, воспроизводятся в упрощенном виде (в связи с обобщением образа русалки) те утопления ведьм, которые лежали в основе всего комплекса и которые полнее изображены в волшебной сказке. В пользу второго решения говорит разыгрываемая нередко борьба двух групп участников, из которых одна группа защищает и оплакивает русалку, а другая отнимает ее ради умерщвления. Это типичный способ первобытной магии обмануть обижаемого демона, отвести его гнев: не мы, мол, тебя убиваем, а посторонние (их-то и изображает нападающая партия) (Токарев 1957: 50). При обычном человеческом жертвоприношении такие обманные действия, как правило, не применялись. Обряды с чучелом или куклой кукушки (пучок «кукушкиных слезок», одетый в рубашку и повязанный вдовьим платком) считают поздними: они распространились только в черноземной полосе России (Кедрина 1912; Елеонская 1912; Харузина 1912; Соколова 1979: 200-204; Бернштам 1981). Вероятно, «кукушка» в них параллельна и эквивалентна русалке — вряд ли заместила ее, скорее оказалась образом, выросшим на одной основе. На первый план в этих обрядах выдвинулось «крещение кукушки» (на нее вешают крестик и отмечают это трапезой). Возможно, в этом образе выдвинулась особая категория русалок: младенцы, умершие некрещеными. Это и христианский, то есть поздний, налет — попытка усмирить смертоносную силу, связанную с кукушкой. С «крещением» кукушки связывается покушение — с кукушкой и между собой. А вот это более древний пласт. Кукушка рисовалась птицей тоскующей и не находящей себе места — вот и летает повсюду, не имея дома, подкидывает яйца в чужие гнезда. Это способствовало ее осмыслению как души вдовы или сироты. Кумление же было поиском поддержки, обретением подруги на всю оставшуюся жизнь. Было естественно сделать это через символику и образ кукушки, птицы вещей, определяющей судьбу (и количество лет, которые осталось прожить), а в христианское время признавался только один способ кумления — при крещении. Отсюда и «крещение кукушки» (Кедрина 1912). Но в ряде мест сохранилось и завершение всей возни — «похороны кукушки»: на Троицу ее закапывали в роще. Вообще же кумление было весьма распространено в купальской обрядности (Веселовский 1894), так что Веселовский и Анненков считали, что оттуда этот обряд распространился на весенние праздники. Однако наиболее убедительное объяснение обряда покумления в русальской обрядности нашел Зеленин (1991: 394). Он установил сезонность покумления в русальской обрядности: сначала с русалками или их воплощением (кукушкой) кумятся, то есть заключают дружеский союз, чтобы узнать у русалки свою судьбу и вообще ее задобрить, а через три дня или больше расторгают этот временный союз особым обрядом раскумления, который не везде сохранился. В Сербии этому близко посестримство юношей с вилами — тамошними соответствиями русалкам.В сферу русальной обрядности втянулись и обряды, первоначально имевшие другой смысл — связанные с культом растений. «Завивание березки» основано на симилятивной магии. Вероятно, главная суть его не в завивании, а в непременно следовавшем за тем развивании: оно должно было стимулировать развитие растительности. Это предположение можно подтвердить украинскими данными. На Зеленую (Троицкую) неделю там в кругу березок устанавливали шест с колесом наверху. Этот шест называли «игорный дуб» или «сухой дуб». К нему обращались с песней: Розвивайся, сухий дубе! Бо на тебе мороз буде. — Я морозу не боюся, Прийде весна — розовьюся. (Афанасьев 1868, II: 302) Ту же песню пели украинцы на Купалу, только весна (она ведь уже позади) заменена Петровым днем — 29 июня стар, стиля, он после дня Купалы (23 июня ст. ст.): Ой розвывайся, сухий дубе, Бо в Петривочку мороз буде, А я морозу не боюся, Прийде Петривка — розивъюся. (Moszynska 1881: 4) Текст, не очень складно звучащий и весною (какой мороз предстоит сухому дубу?!), стал в применении к Купале абсолютно бессмысленным: на «Петровку» никакого мороза вообще не бывает. Судя по песне, сухой дуб явно перенесен в Зеленые святки и Купалу из Зимних Святок, а песня определяет смысл «развивания» деревьев. Однако девушки на Семик не только завивали и развивали березку, но и, срубив, одевали ее в женское платье, украшали, носили по селу и под конец, раздев, бросали в реку. Старики объясняли, что это должно содействовать обеспечению полей влагой (Соколова 1979: 193-196). Отломанные ветви использовались в магических целях: считалось, что в них вселились души умерших родственников (Пропп 1963: 95-96). Культ растений здесь уже не причем, это просто копирование операций с русалкой, и, что существенно, в тот же узкий отрезок времени. Видимо, люди верили, что русалки за свой период обитания в лесу, отдавали часть своих свойств березе. Во всяком случае — что обрядовыми операциями с березой можно добиться того же, что и с русалкой. Была, кажется, на Зеленых Святках и какая-то разнузданность, связанная именно с обращением к покойникам. Во времена Ивана Грозного, по свидетельству Стоглава (глава 41, вопрос 23), по селам и по погостам все сходились в Троицкую субботу на жальниках (кладбищах), мужчины и женщины, и плакались на гробах умерших «с великим воплем», а потом, с приходом скоморохов, на тех же жальниках устраивались пляски и «бесовские игры» с «сатанинскими песнями» (Гальковский 1916: 192). Иконописец Григорий подал в 1651 г. царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой сетовал, что на Святки и в день Троицы люди «за город на курган ходят и непотребная творят» (Каптерев 1913: 181; Гальковский 1916: 326). Отмечая второе название русалок («купалки»), Зеленин (1916: 115) сделал любопытное примечание: «нам думается, что будущие исследователи купальских обрядов найдут в них гораздо больше связи с русальными обрядами, чем это представляется теперь». Пришло время реализовать его предсказание. 3. ПРОВОДЫ МАРЫЗагадочная МасленицаВ восточнославянской календарной обрядности помимо семицко-троицких празднеств есть еще несколько крупных празднеств, в которых пародийно имитируются похороны какого-то антропоморфного существа и при этом, в отличие от Семика и Троицы, прямо используются бочки (в то время, как к троицким «проводам русалки» бочки удалось привязать только через сказку). Эти празднества — Масленица, день Ивана Купалы и «Петровки». Все они относятся к весне и началу лета. Первый из них подвижный (так как привязан к пасхалии), второй и третий — постоянные (фиксированные «в числе» месяца). Широкая Масленица (Терещенко 1848: 4.7, II. «Масляница»; Дубровский 1870; Миллер 1884; Соколова 1978; 1979: 11—67) — самый разгульный русский праздник, он представляется специфически русским: праздника, вполне аналогичного ему функционально, нет у других восточных славян (украинцев, белоруссов). Нет его и в христианском календаре. Церковь относилась к нему в основном неодобрительно — как к языческому наследию (Святочные 1894; Туманов 1904). Но праздник этот привязан к пасхалии (потому и подвижный). Это несколько противоречит его языческой принадлежности. Масленица справлялась перед семинедельным Великим Постом. Пост этот передвигался вперед или назад в зависимости от наступающей после него Пасхи, а Пасха, по православному церковному календарю, могла прийтись на любой день между 22 марта старого стиля и 25 апреля (в зависимости от соотношения равноденствия, полнолуния и воскресенья). Соответственно Масленица приходилась на разные сроки между концом января старого стиля и началом марта, т. е. чаще всего на февраль. Не будучи приурочена к какому-либо христианскому памятному событию, Масленица сохранила много языческих ритуалов. Главный из них — проводы-похороны Масленицы (рис. 32).
Рис. 32. «Проводы Масленицы» с рис. Григорьева, Архив Пушкинского дома. По книге Соколовой (1979: 21, рис.) Народ подымался на возвышенности, там или на берегу реки жгли костры, причем для костра не просто собирали по домам солому, дрова, всякое старье, скопившееся за год, а воровали (т. е. все это приготовлялось тайно). Возможно, что правило красть топливо для костра родилось уже в христианское время: на нечистое дело идут не собственные вещи устроителей, а ничьи, лишенные хозяев. Воздвигали шест, на нем сверху укрепляли колесо или смоляную бочку (и о колесе и о бочках сообщается из самых разных мест) или хотя бы пук соломы и зажигали их (рис. 33-34). Иногда бочку скатывали с горки вниз. Катались и сами на санках с гор. Хорваты, словенцы и кое-где украинцы в подобных обрядах спускали с горы зажженное колесо. Центральное место в обряде прежде занимала соломенная кукла — «соломенный мужик» или женская фигура, называемая Масленицей (имя, конечно, позднее — от названия праздника; у западных славян этот персонаж назывался Марой, Мареной). Это чучело дня три (с четверга) носили по селу, а в воскресенье хоронили, пародируя похороны, и под конец набрасывались на него, разрывали его и бросали в костер. В ряде мест во время похоронного шествия чучело везли на специальной очень большой повозке, запряженной множеством лошадей, сопровождавшие мужики должны были одеться в разодраные рубища, почтенный мужик, возглавлявший действо, потешал публику, неприлично обнажаясь. Для катафалка использовали сани, иногда лодку, или на сани ставили лодку или хотя бы корыто, а то и бочку. В Сибири поезд составляли из связанных в ряд двух-трех саней, в передок ставилась пустая бочка, за ней водружалась жердь, на жердь сверху надевалось колесо, а на колесо усаживали чучело мужика, на сани ставили и корыто. Подобным же образом снаряжали Масленицу в последний путь и в других районах России. Под конец поезд спускали с горы, а чучело сжигали или топили в проруби. У сербов, в Шумадии, масленичное ряжение носило более эротический характер. Игра называется «Сеяние конопли» или «Коноплярица». Участвуют одни мужчины, и «коноплярицу», т. е. женщину, возделывающую коноплю, изображает тоже' мужчина. Участники изображают обработку конопляного поля — пашут, сеют, а когда конопля подрастет, «коноплярица» охраняет ее от птиц. Остальные изображают прохожих, которые заговаривают с коноплярицей, а затем имитируют с ней половой акт. Забеременевшая коноплярица «рожает» мальчика, а присутствующие судят о том, на кого он похож. Ряженый попом крестит его, а обнаруженного «отца» посыпают золой (Толстой и Толстая 1992/ 1995: 228).
Рис. 33. Сожжение чучела Масленицы (гравюра из книги А. Е. Бурцева 1902 г., по работе: Носова 1969, рис. 1) Для праздника характерны также блины, ритуалы с молодоженами (в гости к теще на блины), на Украине и у западных славян навязывали колодки на ноги молодым холостякам и требовали выкупа с них за освобождение. Колесо, сжигаемое на вершине шеста, давно и основательно связано с культом солнца и симильной магией календарной обрядности (Gaidoz 1884-1885; Фрэзер 1986: 568-623; Дюмезиль 1976: 76, 68, 121; Гамкрелидзе и Иванов 1984: 720-721), а есть много доказательств представления и почитания славянами солнца в виде колеса (Афанасьев 1865, I: 209; Иванов и Топоров 1974: 221). Зеленин (1991: 396), в запале борьбы против солярно-мифологической теории, отрицал эту символику. «Весьма сомнительно, — писал он, — можно ли видеть символ солнца в старом колесе, которое сжигают на костре вместе со всяким старым хламом, тем более, что наличие этого колеса вовсе не обязательно. Старые колеса — превосходное топливо, так как они пропитаны дегтем, однако их трудно засунуть в печь, и к тому же они недостаточно чисты для того, чтобы их клали в печи, в которых пекут хлеб. А если прибавить к этому, что колесные повозки — явление сравнительно новое, то едва ли у нас есть основания приписывать колесу в кострах Иванова дня то большое символическое значение, которое придают ему сторонники солярной теории. Разумеется. Мы говорим здесь только о восточных славянах; символика различных народов различна, и восточные славяне могли заимствовать колесо в костре Иванова дня у своих западных соседей, где оно действительно могло являться символом солнца». Подобная аргументация до странности наивна для такого талантливого и эрудированного ученого, классика русской этнографии. Зачем же для бытовой утилизации старых колес (в качестве «превосходного топлива») поднимать их на шесте и скатывать с горок?
Рис. 34. Крестьянские дети с чучелом Масленицы — сжигаемым пучком соломы на шесте. Фото 1914 г. Музей этнографии народов России. По книге Соколовой (1979: 19, рис.)
А колесные повозки известны на территории нашей страны с энеолита, с IV тыс. до н. э. Бочкой займемся позже. Исследователи издавна понимали, что Масленица — это языческий по своей природе праздник, и некоторые догадывались, что первоначально он приходился на другую дату, но был вытеснен Великим постом. А вот чему этот праздник посвящен первоначально — тут мнения расходились. Н. Афанасьев (1865, 1: 556) считал, что «название праздника заменило позабытое имя древней богини», которая и была представлена куклой. Ряд авторов следом за И. М. Снегиревым (1838, 3: 160; Копаневич 1903: 1) относил праздник к культу Волоса, скотьего бога, поскольку назван праздник по коровьему маслу, а в календаре приходится неподалеку от Власьева дня. Половая свобода, допускавшаяся на Масленице, побудила некоторых авторов (Руднев 1989: 126) считать, что этот праздник произошел «от языческих ярилиных игрищ». В. Ф. Миллер (1884: 39) считал, что в проводы Масленицы «слились два самостоятельных обряда: проводы относились некогда к старому году или к зиме, костры же зажигались как символ новой жизни, возродившегося солнца». К Миллеру присоединялись в этом мнении Чичеров (1957: 372) и Соколова (1978: 55) — проводы зимы. Делались и попытки вывести Масленицу из западноевропейского карнавала (Святочные 1894: 28), а эволюционисты говорили об общих корнях этих двух явлений —Дж. Дж. Фрэзер (1986: 286-306) видел в основе их регулярное убиение одряхлевшего зимой духа растительности, а то и казнь утратившего с возрастом магическую силу царя-жреца, в котором воплощался этот дух. Этому сопоставлению решительно противостояли патриотические ревнители самобытности всего русского. К. Голейзовский (1964: 244), приписав члену Британской Академии Дж. Фрэзеру мнение, что карнавальные обряды западных народов были всего лишь «перепевами древнерусских свадебных игрищ», отвергает даже такую связь: «Разница в отправлении этих обрядов заключалась в том, что на Западе они носили мистический или оргиастический характер, а «разгульный» русский праздник был связан с рождением новой жизни, нового солнца». Так что отечественный разгул был всегда, конечно, благороднее западного. Я. Пропп (1963: 26) видел смысл праздника в магической подготовке урожая путем, так сказать, удобрения почвы телом божества. Он трактовал обильную еду под Новый год как «магию первого дня» (чтобы весь год было такое же изобилие), а так как обжорство было принято и на Масленицу, то исследователь считал, что Масленица некогда совпадала со встречей Нового года — когда он еще приходился на март. Академик Рыбаков (1981: 376) тоже предполагал масленицу перенесенной на февраль с марта, но предпочитал простое толкование, лежащее на поверхности, — проводы зимы: «Правы те этнографы (академик явно имел в виду Вс. Миллера, на коего ориентировался и в ином — Л. К.), которые расценивают веселое сожжение масленицы и катание горящих колес с горы в реку как символическое сожжение зимы, как встречу весны в день весеннего равноденствия, когда день начинает побеждать ночь, тепло побеждает холод. Христианский пасхально-великопостный цикл сдвинул древнюю разгульную масленицу со своего (академик имел в виду: с ее. — Л. К.) исконного места — 24 марта, в силу чего она утратила свою первоначальную связь с весенней солнечной фазой...». В таком представлении славяне-язычники очень схожи с петровскими (и современными) организаторами народных празднеств — организаторами, воображение которых не шло дальше прямолинейной символизации времен года и почитаемых абстрактных понятий. Все-таки стержнем масленичного торжества являются проводы на тот свет, и это побуждает некоторых современных исследователей (Велецкая 1978: 79-81, 114-139) связывать Масленицу с культом предков, видеть в ней переосмысление реальных похорон. Показательны блины — у восточных славян это поминальная еда (Миллер 1884: 21; Zelenin 1927: 336; Пропп 1963: 18; Лаврентьева 1990: 42-44). Сани, ладья и корыто — характерные атрибуты и символы древних славянских похорон (Афанасьев 1865: 579-581; Анучин 1890; Велецкая 1978: 50-51, 119), то же можно сказать и о разодранных одеждах (Штернберг 1901; 1936: 204). Пародийный характер похорон, старания вызвать смех участников (в частности путем заголения) объяснены Проппом и другими исследователями как магические средства преодоления смерти, как нельзя более уместные на похоронах (Reinach 1912; Fehrle 1930; Пропп 1963: 100-104; 1976; Понырко 1984). С другой стороны, известно, какое огромное воздействие на стиль народных праздников оказали карнавальные шествия Петра I с провозом кораблей, шутами и т. п. Вполне возможно, что в запряженных цугом лошадях и сцепленных санях, лодках и корытах повторялись не какие-то древнеславянские подобия индийским колесницам Джагернаута, а петровские шутовские колымаги с кораблями (отсюда и сопровождающие «генералы» и т. п.). В некоторых исследованиях о Масленице проводится идея, что блины в ее обрядности — поздний компонент. У восточных славян это поминальная еда, на Масленицу они перенесены со стороны вместе с поминанием покойных родителей на кладбище в субботу перед Масленицей. Возможно, этому способствовало похоронное оформление самих проводов (Соколова 1979: 48). Таким образом, гипотез много, а ясности нет. В переиздании зеленинской «Восточнославянской этнографии» современные комментаторы отметили: «Специальных работ, посвященных генезису и семантике масленичного комплекса, нет, хотя различные гипотезы о ее происхождении и прямые объяснения тех или иных масленичных обрядов содержатся у всех исследователей, занимавшихся ее описанием. Образ масленицы не раскрыт и не имеет убедительной интерпретации в энциклопедии «Мифы народов мира» (Зеленин 1991: 467). «Купающий» Купало. Праздником Ивана Купалы (Потебня 1867; Moszycska 1881; Соболевский 1910а: 258-266; Балов 1911; Иванов и Топоров 1970; Дражева 1973; Велецкая 1978: 94-105; Соколова 1979: 228-257; Jlic 1985; Клименец 1990) называли в народе 23 июня старого стиля некогда падавший на день летнего солнцеворота канун церковного Рождества святого Иоанна Предтечи (Крестителя). «Сегодня Купала, а завтра Ивана», — поется в песне (Гальковский 1916: 39). В этот день солнце достигает апогея. Это самый длинный день в году и самая короткая ночь. В связи с погрешностями юлианского календаря по сравнению с новым, григорианским, реальный солнцеворот сдвинулся — на 22 июня нового стиля. Но православная церковь отмечает все праздники по старому, юлианскому календарю. Славяне верили, что в этот день при восходе солнце «играет» всеми красками, скачет, окунается в воду (Потебня 1867: 166), и такие же верования отмечены у другого индоевропейского народа—армян (Арутюнян 1980). Следовательно, это очень древнее, восходящее еще к индоевропейскому прошлому представление. Славяне верили также, что в Купальскую ночь на мгновение расцветает огнем папоротник и кто этот цветок сумеет схватить, тому станет понятен язык птиц и зверей и откроются клады. Стар и млад собирали травы для ворожбы и знахарского лечения (считалось, что трава, собранная людьми среднего возраста, не будет обладать чудесными свойствами). В переиздании «Восточнославянской этнографии» Зеленина современные комментаторы во главе с К. В. Чистовым отметили: «Обрядность «купальского цикла» — одна из самых неисследованных в этнографии» (Зеленин 1991: 467). Купало, «купанье» и прыжки через костерВ великорусских землях купальская обрядность слабо сохранилась, гораздо лучше — у украинцев и особенно белорусов. В ночь на Ивана Купалу у них повсеместно жгли костры, парни и девки плясали вокруг костра и прыгали через огонь, нередко взявшись за руки попарно, парень с девушкой (рис. 35), потом гуляли по лесам. Костер непременно разводила женщина, ей это поручали в песнях: «Молодая молодица, разложи купальницу!» (Безсонов 1871, № 87). Вокруг кола и разгорался костер. Купальские песни выделялись архаичным припевом с пристукиванием и топотом: «то-то-то, ту-ту-ту!» (Безсонов 1871: 28-68) — как полагают этнографы, для отгона нечистой силы.
Рис. 35. Прыжки через костры в ночь на Ивана Купало. С картины Р. Шамота. По книге Соколовой (1979: 239, рис.) Главное действо совершалось вокруг специально срубленного, украшенного и водруженного деревца. Иногда его называли Купало (по имени праздника), но в более ранних записях его именуют Мораной, Мареной или Марой. Вместо деревца нередко водружали кол или столб, вбивая его в землю. Столб обвивался соломой, конопляником и назывался Купалой. Пук соломы наверху зажигали в купальскую ночь, и на этот сигнал сбегался народ. Кроме того, делали, бывало, и куклу из соломы, одевали ее в женское платье и сажали под дерево, тогда это и была Мара, Морена или Марина, а иногда обходились одной куклой, без дерева. Под конец праздника дерево и куклу бросали в воду, чтобы они привлекли дожди: «Плыви, Купало, за водою...». Купались и сами, потому что «сам бог купався» (Носович 1870: 269), и купальская вода считалась целебной, или обливались водой — чтобы дождь был. Можно было бы от этих действий и производить эпитет патрона праздника, если бы глагол «купать» вообще не был молодым в русском языке — в этом значении от него очень мало производных («купель» — и все). Окунание при крещении — уж никак не купание, к тому же по христианскому календарю 24 июня (а не 23!) — это даже не день Крещения Господня, а день рождения Иоанна Крестителя. Крещение же Иисуса Христа отмечается 19 января по старому стилю (6 янв. новому ст.), т. е. на двенадцатый день после Рождества — вполне по обычаю крещения новорожденных (и дата несомненно привязана к этому обычаю), хотя по легенде такого обряда во младенчестве Иисуса не было, а юноша Иисус сам пришел к Иоанну Крестителю на Иордань и принял омовение в реке. Таким образом, привязка названия праздника к крещению крайне искусственная, а ссылка на то, что «сам бог купався», поздняя или, что очень возможно, соскользнула на Иисуса с представления об окунании солнца в воду в день солнцеворота. Ветки дерева уносили домой и разбрасывали в огороде, чтобы лучше родило. Дерево и чучело всегда изготовляли девушки, а парни нападали и старались отнять, они-то и были погубителями Марены. Девушки плели венки и бросали их в воду или перебрасывались ими, а парни старались поймать и разорвать — это имело метафорический смысл полового овладения. Для обрядовой трапезы девушки готовили яичницы, блины и кашу из ячменя, специально толченного в ступе, что говорит о глубокой архаичности обряда (Соколова 1979: 245-246). «На Украине, Подоле и Волыни — писал И. М. Снегирев (1838, в. 3, 30) — в Купайло, по захождении солнца, девицы собираются в одно место, куда приносят ветвь вербы, убранной цветами, и, утвердив ее в землю, ходят вокруг этого дерева, называемого у них Купайло, и поют жалобные песни в честь Купайло. Это продолжается более часа; потом парни, стоящие в стороне, бросаются на вербу и, несмотря на защищение девиц, уносят и обрывают ее; тем и кончается этот обряд». В Волынском Полесье деревцо, изображавшее Купалу, швыряли в реку, приговаривая: «Плыви, Купало, за водою, а я по Петрi за тобою», — и удирали (Камiнський 1927: 18). То есть обещание плыть за Купалой дается с отсрочкой на неделю — до Петрова дня, там кончается пост. По-видимому, это обманное обещание. Серия подробных наблюдений была проведена полькой Юзефой Мошиньской при этнографических обследованиях окрестностей Белой Церкви на Украине. Они опубликованы в 1881 г. (единственный в Петербурге экземпляр этой книжки, в Библиотеке Академии наук, ускользнул от внимания петербуржских-ленинградских этнографов — я первым разрезал его страницы; между тем, в нем содержатся важные, более откровенные подробности). Мошиньская тоже рассказывает о деревце, убранном цветами, которое и зовут Купайло. Его устанавливают, украшают свечками из воска или смолы, поют песни, а потом парни бросаются на него и крушат, разламывают, уничтожают. При этом поют: Сегодне Купайла, завтра Ивана, Кидало хлопцями, метало, Девчатам Купайла поломало. (Moszynska 1881: 2) Рядом с этим деревцом, сообщает Мошиньская, разводят костер, через который и девушки и парни скачут. Там, где есть река, все празднество происходит на берегу, а деревцо (Купайло). бросают в воду и при этом поют: Купайла треба скупаты (искупать), У води добре сховаты (спрятать). А следом за ним девушки пускают плыть свои венки и по тому, как они плывут, гадают о своей судьбе (там же, с. 12). О том, что раньше заставляли плыть некую женскую фигуру, говорит украинская песня, исполнявшаяся при швырянии деревца «Купайлы» в воду в деревне Глушки: Та плыве дивка из водою, Пуска долю за водою. Плыви, доле, за водою, А я слид за тобою. (Там же, с. 7) В деревне Острыйки деревцо не устанавливают, а просто разводят на берегу костер. Девушки раздеваются догола, только венок держится на голове, и скачут в таком виде через огонь в воду, стараясь во время прыжка подцепить ногами горящие головешки и подбросить их как можно выше. Парни ждут в стороне, присматриваясь. Когда последняя девушка закончит свое прыганье, хлопцы повторяют то же самое, также без одежды, по три раза каждый. Потом молниеносно одеваются, чтобы усесться с девчатами при костре (там же, с. 13). В деревне Павелки с одной стороны костра помещаются парни, с другой — девчата, все раздеваются догола и скачут через огонь. Потом бросаются в воду. Парни стараются в это время украсть одежду девчат, чтобы тем пришлось голыми бежать домой (там же, с. 15). В деревне Черкасы те и другие «скачут через огонь совершенно голыми с таким расчетом, чтобы сразу броситься в воду и снова прыгать через огонь». Это повторяется несколько раз, причем обязательно попарно — парень с девушкой, держась за руки (там же, с. 16). Обращает на себя внимание, что девушки раздеты догола, но украшены цветами (венки) — точно, как болгарские додолы, и точно так же ритуал оканчивается водной процедурой — там окачиванием водой, тут прыганьем в воду. Следовательно, участницы купальских ритуалов как-то связаны с вызыванием или обеспечением дождя, с додолами и образом русалки. Как можно полагать, во многих случаях по обычаю дело не ограничивалось обоюдным оголением молодежи и разрыванием венков, имевшим метафорический смысл лишения девичества. Лишение девичества бывало и реальным. В той же деревне Острыйки, посидев у костра, девушки кидают в воду свои венки и поют: Ой тихо, тихо Дунай воду несе, А ще тихийше дивка косу чеше, Що начете, то и на Дунай несе, Плыви, косо, пид темны луг просто (прямо), Завдай туту (задай печаль) Темненку лугу. Незнай спыну (не знай остановки) Вдовиному сыну Що звив з ума млоду дивчину. Из ума звивши, На коника сивши. Тепер же ты ни дивчина ни жинка, А мени пахне одежка мандривка. Мени молодому та пришиют квитки (пришьют цветки), А тоби погана надинуть намитку. Ой мени музыки заграют, А тоби погана баби заспивают. Или: ...А тоби баби очипка надинуть (Там же, с. 13). Очипок (очапок, чепец) и намитка (наметка) — головной убор женщин, не девушек. В этой песне со старинным приурочением к Дунаю говорится о молодце, который «опоганил» девушку, оставив ее «ни дивчиной ни жинкой». По другим пассажам из купальской песни, приводимым Потебней, становится ясно, что девушка утопилась. Мать ее причитает и просит людей не брать из Дуная воду: это ее дочери «врода» (красота), не ловить рыбу — это тело дочери, не косить траву в лугах — это коса дочери. Еще Потебня (1867/1914: 160) связывал эту песню с утоплением Купалы, но скорее речь должна идти о происхождении русалки. Таким образом, намечается связь между участницами купальских торжеств и русалками — через купальскую утрату девичества. Действительно, в купальскую ночь допускалась значительная половая свобода. Из «исповеди каждого чина по десятисловию» видно, что на Купалу кроме скакания через огонь делали еще что-то, о чем писать «не лепо, но стыдно» (Гальковский 1916: 96-97). В своем послании игумен Панфил (начало XVI в.) печаловался о празднестве в Иванов день: «Егда бо придет самый тот праздник, мало не весь град возьмется в бубны и в сопели... И всякими неподобными играми сотонинскими плесканием и плесанием. Женам и девкам — главам накивание и устам их неприязнен клич, всескверые песни, хрептом их виляние, ногам их скакание и топтание. Тут же есть мужем и отроком великое падение на женское и девичье шатание. Тако же и женам мужатым беззаконное осквернение тут же...» (Пушкарева 1996: 48). В «Стоглаве» (1861: 141 — гл. 40, вопр. 24) с негодованием описывается греховная практика того времени: «Русальи о Иванове дне, в навечерии Рождества Христова, и в навечерии богоявления господня. Сходятся народи — мужи и жены и девицы на нощное плещевание, и бесчинный говор, и плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела. И бывает отроком осквернение и девкам растление. И егда нощь мимо ходит, тогда отходят к реце с великим кричанием, аки беснии, умываются водою; и егда начнут заутреню звонить, тогда отходят в домы и по водам глумлы творят всякими плясаньями и игрании гусльми и скаредными образовании. Еще и пьянством подобие сему творят во днех и в навечерии Рождества Христова...». О том, почему сюда притянуто и Рождество Христово, станет ясно из дальнейшего изложения, а пока отметим как пережиток язычества чрезмерную половую свободу в купальские дни, ужасавшую церковное руководство. Отсюда, по-видимому, и эпиклеза того «диавола», того языческого божества, которое скрывается за христианским Иваном, явно здесь не первоначальным, — Купало от корня «куп-», означавшего соединение («купа» «куча», «купно», «совокупляться» и т. п.). «Купать» — явно поздняя и очень неподходящая привязка к функции христианского Крестителя. Впрочем, возможно, что какое-то отношение к названию праздника и эпитету его виновника имеет поверье об окунании солнца в этот день, как предполагал Балов (1911: 440). А солнце было достаточно важным элементом содержания праздника в день солнцеворота. Огненное колесо и родство с МасленицейВ Волынском Полесье колесо, обмотанное соломою, подымали на вершину дерева и зажигали. Или, зажегши обмотанное соломою колесо, «спускали його з горбочка», и смотрели, как оно постепенно «розгоралось, котючись, и як докотившись, падало у воду» (Каминський 1927: 20). Верили, что в этот день и солнце купается, окунаясь несколько раз в воду. Возможно, что само поверье об окунании солнца связано с этим обрядом. А уж обряд происходит из симильной магии поворотного дня в календаре. Первобытные люди не были уверены в том, что каждый год солнце точно и в срок повернет к осени, с которой связан урожай, и считали необходимым подстегнуть его в этом деле обрядами. Очень часто в Белоруссии в середину купальского костра вставляли шест с горящим колесом или бочкой наверху или хотя бы пучком соломы. В Лепельском уезде Витебской губернии накануне дня Ивана Купалы всей деревней шли в житное поле. «Ловкие «молойцы» (парни) возьмут заранее приготовленные, густо обмазанные дегтем или смолою колеса, зажигают их в средине, в ступице и вздевают на длинные шесты; взваливши эти шесты на плечо, они открывают шествие (значит, в этих колесах на шестах стержневой элемент празднества. — Л. К.). За колесоносцами валят девки и бабы с узелками праздничной еды, мужчины с водкой. Дойдя до поля, обходят его вокруг, не переставая петь. «Колесоносцы» втыкают свои шесты, увенчанные огненными колесами, в землю и живо зажигают заблаговременно сложенные пастухами костры. Тут-то и начинается скакание, плясание молодежи вокруг горящих костров, прыганье через них попарно, парень с девушкой. В иных местах «молойцы» перескакивают через огонь верхами на жеребцах для предохранения их и всего табуна деревни от порчи и преследования злого духа. Часто на меже сходится несколько деревень. Тогда шум и веселье увеличиваются; образуются целые группы шестов с горящими колесами вокруг здесь и там пылающих костров» (Шейн 1874: 436-437). Потом молодежь рассыпалась по лесу для отыскания целебных трав. Старец Григорий из Вязьмы в своей челобитной 1651 г. царю Алексею Михайловичу сетовал: «Такоже о рождестве Иоанна Предтечи всю ночь бесятся, бочки дегтярные зажигают, из'гор катают и, веники зажегши, скачут» (Каптерев 1913: 181). Пропп (1963: 11-12, 67 и passim), со своей острой наблюдательностью по отношению к морфологическим аналогиям, к типологии, обратил внимание исследователей на разительное сходство масленичной и купальской обрядности: там и тут имитация умерщвленного антропоморфного существа, его сожжение или утопление, вера в благодетельность его останков для обеспечения дождей и плодородия. Пропп интерпретировал это как свидетельство того, что в течение всего периода ежегодного оживания и созревания растений люди старались поддержать этот процесс с помощью магии — направляя в природу растительные силы земли, воплощенные в священных деревьях. По его мнению, эти аграрные культы, развиваясь по пути дальнейшей антропоморфизации растительных сил, инкорпорированных в священных деревьях, должны были привести к созданию богов. Персонажи русской весенне-летней обрядности, по его лапидарной формулировке, — это «недоразвившиеся божества» (Пропп 1963: 98). Нацеленность рассмотренных обрядов на обеспечение влаги и плодородия несомненна. Несомненна и причастность культа растений к этим задачам. Однако в пропповском анализе остались, так сказать, незадействованными яркие солярные и очистительные компоненты обрядов, а именно по ним чрезвычайно схожи Масленица и Купало: горящее колесо на шесте, костры, купанье, не говоря уже о загадочной смоляной бочке. Колесо, сжигаемое на вершине шеста, давно и основательно связано учеными с культом солнца (есть много доказательств представления и почитания славянами солнца в виде колеса. — Афанасьев 1865, 1: 207-213; Потебня 1867: 101-103). Далее, растительные прообразы прослеживаются не у всех убиваемых антропоморфных существ — их нет у Масленицы; не все они убиваемы «для прорастания» — «Мара» сидит рядом с деревцем; не всех несут в поле, нередко бросают в воду или оставляют на месте сожжения. Растительные образы, вероятно, наслоились на что-то иное. Мы уже видели, что потопление троицкой березки не оригинально. Оно лишь проекция представлений о русалках на объекты растительной магии. Между тем, купальское деревцо очень близко по времени и по ритуалу семицко-троицой березке, но выглядит слабым ее рефлексом, не представляя в отличие от нее ядро праздника. Мара, русалка и ведьмаЧто же касается куклы Мары, то ее сходство с провожаемой русалкой попросту очевидно. Чтобы это было еще более очевидно, приведем неодобрительное высказывание старух из Купянска о тех, кто, бросив куклу в воду, купаются и сами: «старухи говорят, что купаться с Марынкою не должно, потому что налетает сильный вихрь. Это нечистая сила является за Марынкой, которая, по мнению иных, есть старшая русалка» (Иванов 1907: 103). В довершение сходства с прообразом русалки свидетельство из Сербии. Толстая (1982) отмечала структурное сходство полесского купальского обряда с южнославянским ритуалом уничтожения Морены. В сербской песне вода выбрасывает между двух камней ящик (сандук), в котором заключена прекрасная Мара. Извира-вода извирала Mehy бела два камена. Ту je сандук изаврно, У сандуку лепа Мара. Лena Мара проговара: «Ко he сандук отворити, Нэегова he Мара бити». (Филиповиh 1867: 23) Мара будет принадлежать тому, кто отворит ящик... «Сандук», ящик, бочка тут взаимозаменимы. В этом контексте бочка, а с нею и русалки и «царь Салтан» выглядят не столь уж непричастными к Масленице, хотя конкретная мотивировка включения бочек в русальскую и купальско-масленичную обрядность еще не ясна. Мару, Морену и т. п. некоторые мифологи, опираясь на лат. mors 'смерть' и русск. «морить», склонны объявлять славянской богиней смерти (Иванов и Топоров 1995: 253), но веских оснований для этого нет. Корнеслов таге— общеиндоверопейский и, судя по составным словам франц. cauchmare, англ. nightmare 'кошмар', а главное — по русским описаниям (Афанасьев 1868, II: 101, 176), слово «Мара» означало просто 'привидение', 'призрак' (это значение проступает и в современном «марево»). Стало быть, этим словом можно было обозначить любой неясный антропоморфный образ, любой таинственный, пугающий персонаж. В Сербии и Черногории «морой» называли духа, который, по представлению тамошних крестьян, вылетает мотыльком из умирающей ведьмы (Афанасьев 1865, 1: 101, 176). Т. А. Новичкова (1995: 359-360) приводит и для восточных славян кроме значения 'призрак' еще одно: 'ведьма', добавляя, что ведьмы особенно активны в ночь на Ивана Купалу. Таким образом, рядом с деревом, в котором воплощен Купало, сидит ведьма. Сама она Купалой не является. Костер иногда заменяли копной крапивы и прыгали через нее: она обладала очистительной силой подобно пламени (ибо жжет) и служила оберегом от ведьм подобно полыни. Поскольку в купальскую ночь раздолье для нечистой силы, полагалось носить при себе полынь, вплетать ее в венки и обкладывать дома и хлева. В Белоруссии очень много заботились о защите от ведьм в ивановскую ночь и «порой чуть ли не все купальское действо осмыслялось как обряд их изгнания» (Соколова 1979: 241). Виноградова (2000: 233, 249) отмечает, что обычно реальная женщина проявляет свою активность в качестве ведьмы не всегда, а по определенным дням. В Полесской глуши, где древние языческие обряды и поверья сохранились особенно хорошо, «это прежде всего Купальская ночь, а также Юрьев день, Зеленые святки, Благовещенье, Пасха и некоторые другие». Там говорят: «Купайло — гэто, говорать в нас, празнык, шо на гэтый празнык видьмы вробляють, на гэто свята вси видьмы ходять». Соответственно праздник назывался Иван-Ведьмак, Ведьмин Иван, Иван Ведемский, Иван Ведьмарский, Иван Колдунский, Ведемская ночь (Толстая 1986: 124; Виноградова 2000: 249). Обряд изгнания ведьмы в Полесье справляют на Ивана Купалу: «На Купалу спалюют ведьму, шчоб больше не ходила»; «ведьму на Яна прогоняют кострами»; «уже посля Купалы нема их, ведьм, нигде...» (Виноградова 2000: 242-243). «В Полесской зоне, — заключает Виноградова (2000: 250), — мотивы "изгнания-уничтожения ведьмы" в составе купальского обряда могут быть признаны центральными, выделенными и со всей очевидностью осознаваемыми носителями традиции». Показанные здесь связи не ограничиваются Полесьем. В Польском Поморье при зажигании смоляных бочек говорили, что «выжигают ведьм». В Моравии подбрасывали горящие метлы, а с горки катали горящие бочки, о чем говорили: «летают ведьмы» (Виноградова 2000: 268). По всей Европе люди верили, что ведьма может оборачиваться то ли жабой, то ли ужом, но чаще всего черными животными. И по всей Европе в купальском костре еще в XIX в. сжигали черных кошек и петухов, полагая, что уничтожают ведьму (Календарные 1978: 23, 126-127, 176). Вполне вероятно, что заклание черных животных (телицы, козла и петуха) при костре Перкуна в обряде вызывания дождя у прибалтов, описанное Фабрициусом в 1621 г. как жертвоприношение, было на деле не жертвоприношением Перкуну, а уничтожением ведьм. Такова основа Мары. Превращение нарицательного термина в имя собственное в данном случае скорее всего стимулировано сходством с именем Марии. Это имя рождало у рядовых христианкрестьян смутные ассоциации с Марией-богоматерью и раскаявшейся блудницей Марией Магдалиной. Оба образа имеют нечто общее со сказочной матерью «чудесных детей»: первая, зачав от божества в обход мужа, родила чудесного сына, вторую обвиняли в нарушении половых норм. По трактовке современных этнографов, столб с водруженным на него колесом, символом солнца, представлял мировое дерево — стержень мироздания, и его наличие считалось необходимым для проводов покойника на тот свет (Wilke 1922; Harva 1922-1929; Jacoby 1928; Штернберг 1936: 123; Cooramaswamy 1938; Топорков 1980, 1: 400-401; Руднев 1989). Бочка на шестеОтносительно же бочки Н. Н. Велецкая (1978: 116) пишет: «Предназначение пустой бочки, знаковый смысл ее с уверенностью раскрыть не удается». Исследовательница мельком упоминает аналогии с сербским преданием об умерщвлении стариков в бочке (1978: 78, прим. 2) и с русскими волшебными сказками, но понимает, что «более правильно отнести бочку к знакам, обозначающим предстоящую тризну: бочка могла сохраниться от языческого ритуала, когда ее наполняли хмельным напитком» (1978: 116). Это, казалось бы, подтверждается тем, что и бутылки со стопками и закуской сибиряки также клали в масленичные сани, так что вполне возможно, что у последних исполнителей обряда лицезрение бочки возбуждало именно такие ассоциации. Но бочку все-таки хмельным напитком не наполняли, хотя при таком размахе праздника это был бы не чрезмерный расход. Еще менее понятно при такой трактовке вознесение бочки на шест и ее сожжение — странное было бы обозначение предстоящего возлияния! Все-таки антиалкогольных кампаний тогда не проводили. Но это отнюдь не странное применение бочки в похоронном ритуале, если бочку и здесь, подобно рассмотренным ранее вариантам, представляли себе экипажем для перенесения (на сей раз огненного перенесения) посланца на тот свет. Как раз бутылка рядом с бочкой и поворачивает мысль археолога на более плодотворный путь: уж очень современный предмет. Здесь пора бы вспомнить о том, что и бочка вообще-то прбдмет не столь уж древний в славянском быту, как и все бондарное дело. Оно не могло возникнуть раньше, чем люди научились ковать железные обручи для скрепления бочек, а это означает-железный век. Само слово «бочка» (польск. beczka, чеш. becva, сербо-хорв. бачва, древнерусск. «бъчва»), по предположению А. Стендер- Петерсена, принятому в словаре М. Фасмера — О. Н. Трубачева, заимствовано славянами из восточно-германского *bukjo в последние века до н. э., еще до готского вторжения (Stender-Petersen 1927: 289-291; Фасмер 1986,1: 202). Во всяком случае, в античном мире бочек не было. Вместо них употреблялись пифосы — огромные глиняные сосуды. Из пифоса, а не из бочки вещал Диоген. Там, где русская сказка ставит перед несчастными изгнанниками разверстую бочку, античная и древневосточная легенды открывают им ящик, в нем они и поплывут. Из ящика («сандука») «проговори» сербским певцам и «лепа Мара», когда вода извергла его между белых «два камени» (Фаминцын 1867: 23; Филиповий 1967: 23). В истории материальной культуры ящик, сундук гораздо древнее бочки. В Европе есть находка деревянного сундучка бронзового века (Копенов, II тыс. до н. э.) (Ebert 1925: 362, Tab. 186- 187а). Сундук плавуч, продолговат, запирается, — словом, казалось бы, по всем параметрам лучше, чем бочка, подходит для функции гроба и для насильной отправки людей по волнам. Наконец, были же лодки — сборные и долбленки! Если для отправки царицы с чудесным сыном сказка странным образом остановилась именно на бочке, то для этого должна была иметься какая-то причина. Пропп (1946: 224) предположил, что «пребывание в бочке соответствует пребыванию во чреве рыбы», а это пережиток ритуалов инициации. Однако, от рыбы до бочки интервал слишком велик, рыба совершенно не вписывается в сюжетную линию, где ее якобы подменила бочка. У славян и родственных народов скармливание рыбе неизвестно как наказание (один раз это проделал Иван Грозный с одной из своих жен, но это был уникальный случай). Так как бочка в славянском мире (да и вообще в Европе) появилась незадолго до пражской культуры, то за разгадкой надо обратиться к той круглой таре, которую бочка сменила в своей функции отправки на тот свет. Некоторые народы Древнего Востока и Эгейского мира хоронили в огромных глиняных сосудах — пифосах, в пифос помещали целый труп. Но в Европе, и в частности у славян, для этого применялся другой сосуд — небольшая глиняная урна. Туда помещался пепел сожженного покойника. Время полей погребальных урн было и у славян. Кремация с помещением праха в урну широко распространилась по Европе с середины II тыс. до н. э. В некоторых культурах над урнами насыпались курганы, в других — нет. Эта традиция удержалась у славян до принятия христианства, т. е. более двух тысяч лет. «Повесть временных лет» перед началом счета лет сообщает, что «аще кто умряше, творяху тризну над ним, и възложаху и (его) на кладу (на костер), мертвеца сожьжаху и посемь собравше кости вложаху в судину малу (сосудик), и поставляху на столпе на путех, еже творят вятичи и ныне. Си творяху обычая кривичи и прочии погани...». Наш язык до сих пор хранит память о кремации: «Мир твоему праху!» (т. е. пороху, порошку, пеплу). Над могилой славяне насыпали курган. Очевидно, курган насыпали вокруг «столпа». Очень существенно, что урна с пережженными костями стояла «на столпе». «Столп» исследователи уже давно поняли как 'столб', 'бревно', 'колонну' и соответственно реконструировали форму устройства погребения. Б. А. Рыбаков счел это ошибкой, потому что у слова «столп» в XI—XIII вв. были еще и другие значения: 'башня', 'небольшой домик', 'сторожка', 'надгробие'. Рыбаков предпочел трактовать летописное выражение как 'домовину', 'сруб', 'голубец', помещая туда урну с прахом (1987: 89—92). Он полностью игнорировал тот факт, что летописец помещал урну не в столп, а на столп. Как академик представлял себе урну, стоящую на двускатной крыше голубца? Приходится согласиться с археологом XIX в. Завитневичем (1892: 19-22), который, обнаружив в курганном могильнике остатки вертикальных столбов, так и реконструировал обряд погребения: «...на месте сожжения покойника ставили круглый столб; вокруг столба делали земляную насыпь; на вершине насыпи, на столбе, ставили урну». Только урну ставили, скорее всего, не на вершине насыпи, а в насыпи. В таком случае понятным становится и поднятие горящей урны на шесте к колесу-солнцу: в комплексе с сожжением или утеплением Мары — это обломки разбитого более тысячи лет назад ритуала. В архетипе, как видим (как повествует летопись), у вятичей, кривичей и прочих славян-язычников (радимичей, северян и т.д.) покойника сжигали, кости складывали «в судину малу», а «судину» устанавливали «на столпе на путех». Подъем к небу на шесте, на дереве был необходимой частью отправки «на тот свет», и это представление осталось в народе (Виноградова 2000: 184— 185, 190). Виноградова (2000: 258) предполагает, что «обычай поднимать чучело «ведьмы» или символизирующие ее объекты на вершину дерева связан с широко бытующими поверьями, что в купальскую ночь все ведьмы слетаются на самые высокие деревья. Связан-то он связан, но не в том смысле, что возник на этой основе. Так как эти поверья сами требуют объяснения, то скорее дело было наоборот — эти поверья, как и обычай подъема персонажей, связанных с миром покойников, на высокое дерево или шест, обязаны своим происхождением раннеславянскому похоронному обряду вознесения урн на столпе. С гибелью и забвением этого похоронного ритуала связь его основных элементов распалась: куклу либо сжигают отдельно, либо вообще не сжигают, а топят в воде; обливают не пепел, а друг друга. И теперь еще чучело Купалы, Мары или ведьмы поднимают на шест или срубленное деревце и носят перед сожжением или другим способом уничтожения (Виноградова 2000: 256). Теперь поднимаемый на шесте сосуд не содержит пепла покойника, а ведь надо, чтобы содержимое не осталось без действия огня. Естественно воспользоваться горючей жидкостью — смолой; для лучшего горения целесообразно заменить глиняный сосуд деревянным (бочкой), а горящее наверху колесо подсказывает идею сжечь наверху бочку, столь же круглую. Это сближение сжигаемых бочки и колеса (а в бочке мыслится ведьма) привело к тому, что ведьма стала ассоциироваться с колесом. В Полесье массовыми являются поверья, что ведьма может принять вид колеса. «Вщьма може претворитися в колесо, а як бити колесо, то вона претворюеться в жшку»; «Если увидишь на Купалу, як бежить колесо, дак взять и на веревку и повесить — та ведьма и умрэ!» (Виноградова 2000: 262). Применение смолы в обряде сжигания бочки с предполагаемой ведьмой интересно отразились на образе русалок. В Полесье кое-где представляют русалку вымазанной дегтем или смолой и для русалки даже фигурирует название «смолянка» («смулянка»). Пугали детей: «Смоляна вас забере!» (Виноградова 2000: 150). Связь купальской обрядности с русалкой этим не ограничивается. Во многих местах Белоруссии вместо слова «русалка» употребляют другое обозначение — «купалка». А в «Стоглаве» (1861: 141) купальские торжества именованы «русальями о Иванове дни». Из различных местностей России, Украины и Белоруссии происходят сообщения, что в купальские праздники русалки особенно опасны для людей. По цитатам из описаний XIX — начала XX в., приводимым Зелениным (1995: 272-273), в Белоруссии в Купальскую ночь «ни один крестьянин не поведет лошадей на ночлег: там что-то невыразимо страшное пугает коней и людей: русалки гоняются за людьми...». «Говорят, что ночью на Купалу (24 июня) души умерших — русалки — встают от долгого сна и купаются. Потом, когда взойдет солнце, они якобы сушатся при его теплоте и свете. Если солнце пасмурно, то русалки, значит, закрыли его». «Карпато-россы именуют Купало Русальем и празднуют его более в рощах». С течением времени деформированный погребальный ритуал дробился на все более разрозненные и логически не связанные воедино обломки. Только частичные связи сохранились — одного обломка с другим. Но первый удар, вероятно, был нанесен еще задолго до принятия христианства, до гибели всего похоронного обряда кремации. Этим ударом было изъятие посланцев к богу из системы кремационного ритуала ради отправки их в ирий по воде. Именно это выбило из логической цепи ритуальных действий основное звено и привело в ход процессы естественного разрушения связей. В ритуале же утопления, или его имитации, по-видимому, ко времени появления бочек в обиходе славян еще сохранялись какие-то четкие правила, диктовавшие заключать отправляемых на тот свет сначала в сосуд, а уж в сосуде отправлять их к богу. Иначе в качестве новой тары, более плавучей, чем горшок, предстала бы не бочка, а лодка, плот, сундук или что-нибудь подобное. Вполне возможно, что эта линия развития (от реального убиения «ведьмы» и до мифического заточения царицы с «чудесным сыном» в бочке) почти с самого начала проходила не в ритуале, а в воображении творцов фольклора, т. е. что при утоплении пришлось сразу же отказаться от горшка ввиду его малой вместимости, и если это произошло, когда бочек еще не было, то реально топили без всякого вместилища, но осмысливали это как отправку в сосуде (по образцу сожженных), и это фиксировалось в мифе-сказке, а когда появились бочки, глиняный сосуд был в тексте заменен более подходящим деревянным (вместительным и плавучим). Это значит, что никогда не плыли по волнам реальные бочки с заключенными внутри женщинами и детьми. Если все же появились бы соображения в пользу действительной смены урн с пеплом плывущими бочками с узниками, то это означало бы, что начало бондарного дела у славян дает terminus post quem для прототипа русалок. Поскольку и в сказке, и в ритуале бочка оказывается непременно смоленой, напрашивается догадка, что обе линии эволюции этого мотива (ритуальная и мифо-сказочная) были как-то связаны не только в самом начале. То ли естественное побуждение засмолить бочку, чтобы она не протекла в воде, подсказало идею смолить и поднимаемую на шест бочку, то ли обработка сжигаемой бочки смолой для лучшего горения (на манер смоляного колеса) повлияла на представление о сказочной бочке как о смоленой. Иными словами, знали ли древние участники купальских обрядов, что в сгорающей наверху смоленой бочке не просто незримо присутствуют посланцы к богу, а что это те самые посланцы, которые в мифе уплыли по реке в такой же самой бочке? Знал ли когда-то сказитель мифов, что, хотя тела его героев уплыли в смоленой в бочке по реке, их духи ежегодно сгорают в такой же бочке, поднятой на шест к богу? В конце концов смола ведь могла появиться тут и там независимо. Ясно лишь, что в обеих линиях развития смоленая бочка в конечном счете заменила собой погребальную урну, что в начале обеих линий развития стоял один и тот же женский образ (проторусалка с «чудесными детьми» и «старшая русалка» Мара), что у этих посланцев одно и то же задание (выпросить воду) и один и тот же адресат. Таким образом, за масленичной и купальской пародией на похороны скрываются прежде весьма серьезные ежегодные похороны некоего призрака. Ясно лишь, что жизненно важно было убить его, отправить на тот свет, а уж похоронить требовалось всем миром по древним, дохристианским правилам. В очень меткой статье «Языческая символика антропоморфной ритуальной скульптуры» Н. Н. Велецкая (1984: 76) исходит из верной, хотя и не новой мысли: «Календарные ритуалы направлены на поддержание нормального кругооборота природы в целом и благоприятных условий для роста и созревания селькохозяйственных культур, а также жизнеспособности и умножения скота (представление о нормальном кругообороте природы заключало в себе, разумеется, и благополучие самого человека, его семьи, рода, общины, народа)». Иными словами, первобытные люди, как уже отмечено, не были уверены, что, скажем, лето наступит в положенное время и будет достаточно теплым и влажным для созревания хлебов, если его не стимулировать магическими обрядами, что солнце не спалит хлеба и т. д. Ведь сроки обычно колебались, и задержки пугали людей. Магия должна была помочь и обеспечить благополучие общины. Эти цели характерны не только для календарных обрядов, но и для окказиональных — по случаю катастроф (засухи, мора и т. п.). «В случае нарушения нормальной жизнедеятельности в природе, несущего в себе угрозу катастрофы, отправлялись экстраординарные ритуалы». Отсюда типологическое сходство таких ритуалов (например, «вызывания дождя») с календарными. Оригинальный вклад Велецкой в понимание таких обрядов заключается в ее идее о том, что «структура календарных ритуалов определялась представлением о необходимости отправлять «вестников» в космический мир богов и обожествленных предков в самые жизненно важные для общины моменты». Разумеется, в современном пережиточном ритуале обычно мы имеем дело уже не с самими «вестниками», «посланниками» (Велецкая их называет также «легатами»), а уже с какими-то их заменами — животными, чучелами, куклами. «Обрядовая традиция отображает не самый ритуал проводов на «тот свет», а трасформированные и деградировшие формы его, сложившиеся в результате замены посланников знаками и символами» (Велецкая 2000: 77). То есть то, что обычно определялось просто как человеческое жертвоприношение или его замена символами, по идее Велецкой первоначально являлось отправкой посланцев, заступников, на «тот свет» к божеству. В этом смысле человеческое «жертвоприношение» принципиально отличалось от приношения животных в жертву. Животные, также как растения, жертвовались в пищу, тогда как люди должны были предстать перед божеством и молить за оставшихся в живых. Можно еще добавить, что нередко такая отправка сочеталась с изнанием из этого мира существа враждебного и опасного. Нужно было его специально обезвредить и задобрить, чтобы оно сослужило нужную службу. Отсюда двойственное отношение к отправляемым посланцам — ведьме, русалке, Масленице, Маре. Однако и в масленичном и в купальском ритуалах кроме посланца женского рода скрывается еще один призрак, которого и назвать по имени опасно. Пол этого существа не женский (как Масленица и Мара), а мужской («соломеный мужик», Купало). Это мог бы быть сам адресат — некий языческий бог, но его тоже хоронят. Скатывание колеса и происхождение МасленицыИтак, между масленичными и купальскими празднествами есть большое структурное и смысловое сходство. Казалось бы, эти праздники диаметрально противоположны. Один — зимний, другой — летний. Первый — «переходящий», подвижной (так как привязан к пасхалии и ерзает по календарной шкале вместе с Пасхой), второй — постоянный (фиксированный «в числе» месяца). Первый в названии имеет женский персонаж, второй назван по мужскому персонажу. Однако в обоих пародийно имитируются похороны какого-то антропоморфного существа, и повторяющихся деталей не счесть (бочки, колеса, костры, шест или срубленное деревце и т. д.). Чем же все-таки объясняется разительное сходство празднеств — масленичного и купальского? В. Я. Пропп объяснял его повторением одинаковых действий на всем протяжении времени, пока сохранялись одни и те же условия и задачи (способствовать подъему растительности). Но такая растянутость применения одного и того же комплекса магических приемов была бы беспрецедентной. К тому же этим не объясняется ни деление одной и той же культовой активности на резко обособленные порции, ни операции с солнечным колесом. Сходство обоих комплексов столь велико (в стержневых компонентах оно доходит до тождества), что позволительно предположить разделение одного и того же древнего празднества. Из двоих производных на прежнем месте сохранилось купальское, а Масленица — результат передвижки. Это устанавливается по одному из масленичных обрядов — скатыванию огненного колеса вниз с горы (развитием этого обряда являются саночные катания и скатывание бочки с гор). Символика обряда прозрачна: имитируется (в порядке магического стимулирования) движение солнца вниз по небосклону. В пинском Полесье о пути солнца на небо пели: «Сонейко колесом на гору иде» (Иванов и Топоров 1965: 135 со ссылкой на Пинчука, № 12). Колесом солнце символизировалось у многих народов (Gaidoz 1884-1885; Алборов 1968; Дюмезиль 1976: 74-76, 104-108, 112-115; Green 1984). Но заход солнца осуществляется каждый день и нигде он специальными обрядами не стимулируется. Календарные обряды, конечно, имеют в виду годичное движение солнца по эклиптике (т. е. повышение и снижение максимальной полуденной высоты). Апогея солнце достигает в нашу эпоху 22 июня (нов. ст.), в древности к этому летнему солнцевороту (отнесенному тогда к 23 июня ст. ст.) и был приурочен церковью день памяти Иоанна Крестителя (24 июня) — явно с целью отвлечь прихожан от сугубо языческого праздника, при котором «простая чадь обоего пола... соплетают себе венцы... и препоясавшеся былием, возгнетают огнь», а затем «поставляют зеленую ветвь и, емшеся за руце около, обращаются окрест оного огня, поюще свои песни... потом через оный огонь прескакуют» (ПСРЛ 1877, 2: 257). В IV в. н. э. Аврелий Августин (Блаженный) прямо объяснял приурочение дня Иоанна Предтечи к солнцевороту ссылкой на астрономическую аналогию: ведь в Евангелии Иоанн так сравнивает себя с Иисусом: «Ему подобает расти, мне же малиться» (Святский 1923: 76). В мифологии осетинов горящее катящееся колесо с чудесными свойствами и называется «фыд Иуане» — колесо Иоанна (Дюмезиль 1976: 76). Достигнув в этот день апогея на эклиптике, солнце поворачивает книзу. Это переломный день в годичной солнечной активности, и чтобы ночь не сокращалась до полного исчезновения, а жара не возрастала до гибельной силы, этот поворот солнца необходим — он нужен для сохранения нормальной смены дня и ночи, лета и зимы, для поддержания цикличности в природе, кругооборота жизни. Болгары верили, что в Иванову ночь солнце не знает предстоящей ему дороги (Афанасьев 1865, I: 440). Поворот солнца на зиму считался одним из подвигов Индры. Многие индоевропейские народы поддерживали извечную «риту» (мировой порядок) обрядами, скатывая в эту ночь горящее солнечное колесо вниз (Афанасьев 1869, III: 718; Frazer 1914: 330-346; Дюмезиль 1976: 74-76; Хокинс 1977: 231). В ночь на Купалу в Белоруссии зажигали колеса и скатывали их с обрыва. В челобитной иконописец Григорий из Вязьмы (1651 г.) жаловался на простонародье, праздновавшее Купалу: «Всю ночь бесятся, бочки дегтярные зажигают и с гор катают» (Путилов 1999: 43-44). Но в феврале — марте, когда справляется Масленица, солнцу еще долго подниматься до летнего апогея, и скатывание огненного колеса вниз в это время совершенно неуместно. Ведь в это время как раз еще «сонейко на гору иде»! А при проводах Масленицы скатывали с горы горящее колесо украинцы, хорваты, словенцы (Иванов и Топоров 1965: 135); русские скатывали бочку (Соколова 1979: 24). Даже пребывание горящего колеса высоко на шесте тоже вряд ли подходит к этому времени: солнце еще далеко не в верхней точке своего пути в небе. Колесо в верхней точке — это символика, естественная для Купалы, а не для зимнего праздника. Поэтому предположение об ответвлении масленичных обрядов от купальских напрашивается само собой. Как и почему оно могло произойти? Понять это несложно. Весь весенне-летний период календаря христианская церковь закрыла длинной подвижной системой постов и праздников, выстроенных по обе стороны от самого важного христианского праздника — Пасхи (Великодня) и — поскольку он передвижной — как бы ерзающих взад-вперед по календарной шкале вместе с ним. Пасха (Воскресение Христово) еще у евреев была привязана и к солнечному и к лунному календарям и поэтому оказывается каждый год на новом месте в нашем календаре, в своей основе солнечном. Она празднуется в весеннее равноденствие или в первое воскресенье по равноденствии после полнолуния. Поэтому православная Пасха может прийтись на любой день после равноденствия в течение месяца смены фаз луны (от одного полнолуния до другого). Но и равноденствие не остается постоянным — оно смещается в связи с вековым колебанием солнечной эклиптики. В IV в., когда христианские праздники устанавливались, равноденствие приходилось на 21 марта стар, стиля, а ныне приходится на 22 марта нов. ст., но православная религия держится за 22 марта ст. ст. (6 апреля нов. ст.). Так что теперь Пасху празднуют, следя за полнолунием, между 22 марта и 25 апреля ст. ст. (6 апреля-8 мая нов. ст.). Вот этот интервал явно закрыт для светских (и языческих) празднеств.За Пасхой начинается отсчет Пятидесятницы — семь недель, наполненных христианскими празднествами и памятными днями: первая неделя после пасхи — Светлая, Пасхальная — с Красной Горкой, вторая — Фомина, четвертая неделя после Пасхи — Крестопоклонная, из неподвижных праздников на 25 марта ст. ст. (7 апреля нов. ст.) приходится Благовещенье, на 23 апреля (6 мая нов. ст.) — Егорьев день (св. Георгия Победоносца), на 9 (22) мая — перенесение мощей св. Николая Чудотворца (Никола Вешний). Особенно сгущены христианские праздники в конце отрезка: Вознесенье в четверг, в 40-й день после Пасхи (в интервале с 30 апреля по 3 июня ст. ст. = 13 мая — 16 июня нов. ст.), Троица и Духов день — в 50-й и 51-й дни. Восьмая неделя после Пасхи — Троицкая (или Русальная), а затем сразу же, когда бы ни пришлись Духов день и Троицкая неделя, начинается Апостольский пост, длящийся от недели с небольшим до полутора месяцев (конец закреплен неподвижно в Петров день — 29 июня ст. ст. = 12 июля нов. ст.). Этот пост всегда накрывает доминанту купальской обрядности — Иванов день (24 июня ст. ст. = 7 июля нов. ст.). То есть налагает на него запрет. Этот языческий праздник надо было куда-то перемещать. Если бы вся эта система христианских торжеств была неподвижной, намечалось бы около месяца, сравнительно неплотно закрытого, — от конца Пасхальной недели до Вознесенья или даже Троицы, за которой Апостольский пост. Но поскольку вся эта система подвижна, нетрудно понять, что сравнительно неплотно закрытый участок шкалы сильно сужается: самое позднее окончание Пасхальной недели приходится на 2 (15) мая, а самое раннее Вознесенье наступает 3 (16) мая, Троица—13 (26) мая. Стало быть, неплотно закрытый участок сужается до декады между 3 и 13 мая ст. ст. Но именно на середину этой декады, на 9 мая ст. ст. (каждый год падающее на иной день недели), приходится Никола Вешний, а кроме того все среды и пятницы — постные дни. Особо не разгуляешься. Но это еще не все. Непосредственно перед Пасхой соблюдается строжайший пост всю Страстную неделю. Значит, перед 22 марта ст. ст. (4 апреля нов. ст.) надо добавить еще одну закрытую неделю —от 15 марта, а перед ней —еще пять недель строгого поста и еще одна неделя (Сырная) поста нестрогого. Итого семь недель Великого поста. Они тоже все вместе ерзают на календарной шкале (вместе с Пасхой), и самое раннее время для начала строгого поста приходится, стало быть, на 7 (в високосный год на 8) февраля, а для Сырной недели — на 1-2 февраля ст. ст. (14-15 февраля нов. ст.). Итак, 15 недель (почти 4 месяца) подвижной полосы запретов на какие-либо внецерковные праздники — с небольшим, правда, просветом за Пасхальной неделей, но просветом, испещренным постными днями (каждые среда и пятница, кроме Пасхальной и Троицкой недель) и не имеющим постоянного места в календаре, стало быть, закрываются еще месяц и три дня (диапазон колебаний). А сразу за этой полосой еще от полумесяца до полутора месяца поста, непременно закрывающего Иванов день — день солнцеворота! Пост означал не только запрет на скоромную пищу (в частности на жертвенное мясо), но и на хмельные напитки, пляски и песни, на всяческие увеселения. Значит, в целом — пять месяцев христианских постов и торжеств, исключающих языческие увеселения. Ясно, что там, где христианская церковь была сильна, от прежнего языческого праздника в день солнцеворота могли остаться лишь некоторые, самые безобидные обряды — в основном те, что были способны сойти за посвященные христианскому святому (не случайно был подобран, коль скоро «совокупление» было осмыслено как «купание», святой, причастный к погружению в воду — Креститель, Купало). Впрочем, Потебня (1867: 29) указал еще одну зацепку для привлечения Крестителя: солоноворот, солнцеворот в диалектах переживает как «крес», стало быть, первоначальный Купало был «кресником», отсюда недолго было переосмыслить его как Крестителя. Все остальное должно было сдвинуться за пределы указанной полосы. Ближе было бы вынести их в лето, за конец этой полосы, и это тоже делалось: кое-где в южнорусских губерниях и на Украине перенесли купальские праздники на Петров день (вот откуда в купальских песнях отсрочка до «Петривок»!). Там жгли в ночь на 29 июня ст. ст. костры, шли на горку «караулить солнце» (смотреть, как оно «играет»), заставлялись боронами вкруговую от нечисти, грохотали бубнами и бубенцами, норовили тайком уволочь все, что плохо лежит, да бросить, имели обыкновение и «бочки таскать» (Соколова 1979: 252-255). Но те обряды, которые должны были стимулировать в день солнцеворота природу, было бы глупо совершать с опозданием, post festum, — тогда ведь они уже ни к чему. Они должны были предварять событие. Поэтому оставался единственный выход — вынести их за начало запретной полосы. Это хоть и очень далеко, но зато перед природным событием. И обряды с колесом, бочкой, куклой, трапезой и т. п. были перенесены в самое начало всего периода, но, правда, не в слишком уж далекий мясоед перед постом, а (чтобы максимально сократить опережение) в первую же неделю облегченного поста — Сырную, когда мясо есть уже нельзя, но сыр, масло и яйца еще можно. Перенесли в самый конец ее — с четверга. Приналегли на масляные блюда — вот и получился перед Великим Постом праздник Масленица (рис. 36). Рыбаков (1997: 420) также считал «древнюю масленицу» праздником, сдвинутым со своего старого места. Он полагал, что Масленица первоначально была приурочена к весеннему равноденствию, 20-25 марта, но не смог привести аргументов кроме общих указаний на солнечную символику. Какие-то обряды, связанные с равноденствием, могли, конечно, также попасть в сырную неделю. Рис. 36. Происхождение Масленицы из купальских торжеств. Схема. Соотношение христианских праздников и запретов со следами язычества в православии Видимо, сюда, в эту неделю, сдвинулись не только обряды солнцеворота, но и другие, более ранние, вытесненные из предшествующих Иванову дню старых празднеств — относящиеся к молодоженам, некоторые поминальные. Их смесь и стала праздником Масленицы. Не имея органической привязки к дням конца зимы, праздник этот оказался подвижным, колеблющимся на шкале вместе с началом Великого Поста. Значит, вопреки обычным трактовкам во всех этнографических трудах, Масленица — это не старый языческий праздник, сохранившийся у христиан, а праздник новый, на новом месте календаря, лишь сформированный из языческих обрядов, из компонентов языческих праздников, отмечавшихся в другие дни. Эту гипотезу хорошо подтверждает географическое распределение праздников. Масленица справлялась почти исключительно в коренных русских областях (рис. 37), где православная церковь распоряжалась безраздельно — как раз в этих областях от «купальских» празднеств в день солнцеворота сохранились жалкие следы. Все подавлено, почти все ушло в Масленицу. А вот в Белоруссии и на Украине, проведших несколько веков в составе Польско-Литовского государства, православная церковь не была господствующей и не пользовалась преимущественной поддержкой государства, католическая же пользовалась такой поддержкой, но не имела широкого распространения в массах подвластного панам восточного славянства. Обе вместе имели сил и возможностей меньше, чем православная церковь России, духовно и административно подавлять пережитки язычества в массах православного населения. В этой ситуации пережитки язычества держались в народе прочнее. В результате именно в Белоруссии и на Украине еще недавно солнцеворот широко праздновали в положенный исстари день, только назван праздник Купалой в честь ли Крестителя или скорее по языческим основаниям, но с компромиссом — якобы под Крестителя. Зато Масленица в этих областях по сути не сложилась вообще. На Украине к этому времени относится праздник «колодий» — молодым холостякам женщины навешивают на ногу колодку и требуют выкупа за то, что до сих пор не женились. Это совсем из другой обрядности. Там и блины (похоронную еду) в это время не ели (Лаврентьева 1990: 44). Этот обряд с колодкой также сдвинут, но совсем из другого праздника (дальше об этом еще будет речь). На русском Севере, где православная церковь также не обладала всепроникающей государственной поддержкой, также нет проводов Масленицы — вместо этого похожая по смыслу на «колодку» обрядность, относящаяся к молодоженам — «столбы», «целовник», «катание молодых» (Носова 1969: 46-48).
Рис. 37. Карта распространения вариантов масленичной обрядности, по Носовой (комплексы обрядов: 1 — северный, 2 — среднерусско- поволжский, 3 — смешанный, 4 — колодка) Из православных стран Масленица есть в Сербии, где православная церковь господствовала, как и в России, безраздельно. В Болгарии прыгают через костер в марте, на пережитках встречи (мартовского) Нового года (Колева 1977: 282). В этом смысле специфична не Россия: католические и протестантские земли тоже пережили такое передвижение обрядов летнего солнцеворота — там сложился карнавал. Специфичны Белоруссия и Украина из-за особого положения в них конфессий. Не все купальские обряды (или не везде) ушли от Иванова дня так далеко к началу года — аж до Масленицы. Некоторые сдвинулись в ту же сторону ненамного. Мы уже видели, что «проводы русалки» оформлялись очень схоже с похоронами Мары. Они восходят корнями к тому же кругу представлений (утопление ведьмы) и точно так же соединились с почитанием деревца и зелени (троицкая березка), как и похороны Мары на Купалу (купальское дерево). Видимо, проводы русалки — это тоже обряды, отслоившиеся от купальских, но убранные недалеко от них (ведь в снежную масленицу зелень, естественно, просто не могла добраться). Они отъехали к подвижному началу Апостольского поста (непосредственно закрывающего Иванов день) и были приурочены к четвергам по обе стороны Троицы: в четверг перед ней (седьмой после Пасхи — Семик) — «завивание березки», в четверг (постный) после Троицы — «Русальчин Великдень». Впрочем, «завивание березки», возможно, отошло из весеннего равноденствия. Возможно, что сюда, к Троице, эти обряды были притянуты по ассоциации с русалкой и похоронами заложных, вероятно, приблизившимися навстречу; они были отодвинуты к Троице (по церковной терминологии — Пятидесятнице, т. е. маркирующей истечение 50 дней после Пасхи) откуда-то из другого места шкалы, скорее всего убраны из-под Пасхи и священной Страстной недели. Там перед Пасхой было весеннее равноденствие, а перед равноденствием, в начале марта, у многих древних народов начинался Новый год. В Киевской Руси (до 1348 г.) Новый год начинался с 1 марта. По ряду признаков Д. К. Зеленин (1916: 222) пришел к заключению, что так было у славян и в докиевскую эпоху. К этому времени естественно было похоронить скопившихся за год заложных (Зеленин 1916), а рубеж февраля и марта на дунайской прародине славян был достаточно теплым для этого. Возможно, к этому новогоднему празднику относились болгарские торжества, выполнявшиеся еще недавно в нынешний Новый год двенадцатью «старцами» в огромных масках и специальных одеяниях (Маринов 1914/1994): число двенадцать соответствует двенадцати месяцам и должно приурочиваться к любой встрече нового года, когда бы он ни начинался. А Колева (1973: 276) добавляет, что новогодние празднества, как и весенние, назывались в Болгарии русалиями. К Новому году (началу марта) естественно было также подвести итог свадьбам, присходившим у восточных славян зимой (Сумцов 1996: 56-59; Прозоровский 1897: 202; Пропп 1963: 125), укорить холостяков. Страстная неделя и Пасха все это вытеснили, раздвинули, раскидали в разные стороны. Прежнее нахождение крупного комплекса похоронной обрядности где-то в эту пору прослеживается по тем его остаткам, которые зацепились по соседству с Пасхой (став передвижными), но сохранили прежний языческий характер и осуждаются церковью. Это Навский Великдень в пасхальный четверг и Радуница (Навьи проводы) во вторник следующей, Фоминой, недели. Возможно, в этот период воздавались почести Велесу. В Белоруссии в Великий Четверг (Страстная неделя) добывали от ворона всеведение; в Егорьев день (23 апреля) вспоминали об опасности волков. Вороны и волки у германцев — атрибуты Одина (Соколова 1979: 101), которого некоторые исследователи связывают с Велесом (связь через германского демона Вельса, Vols'a, родича Одина). Страстная неделя и Пасха притянули к себе поминки по заложным из-за тематической близости к умерщвлению Христа, но эта близость не устраивала церковь. Шло вытеснение языческих поминальных обрядов в обе стороны — они распространились от Масленицы до Семика. При всех приведенных расчетах я имел в виду весеннее равноденствие и летний солнцеворот как они фиксированы в церковном календаре, оставляя в стороне тот факт, что они разошлись с реальными, астрономическими, убежав вперед на две недели из-за погрешностей юлианского календаря («старый стиль»), все еще соблюдаемого православной церковью, по сравнению с грегорианским календарем («новый стиль»), принятым прочими христианскими конфессиями и гражданской властью. Перун за купальской обрядностьюНо вернемся к исходному очагу иррадиации интересующих нас обрядов, связанных с утоплением ведьмы, — к Иванову дню, дню солнцеворота. Еще Безсонов выделил песню (1871, № 47), описывающую поклонение некоему божеству, и считал это поклонением Купале: Сяред сяла Воучковского То-то! Ту-ту! Стояла лазня дубовая Ту-ту-ту! А ходили детюшки (парни) богу помолиться: То-то! Стоуб обнимали, печь цаловали Ту-ту-ту! Перяд Сопухой крыжом (крестом) ляжали То-то! Яны (они) думали — прячистая, Ту-ту-ту! Анож Сопуха — нячистая! То-то! (Безсонов 1871: 29) И Безсонов и Рыбаков (1987: 128-129) считали, что Сопуха — это другое наименование Купалы (поэтому печатали ее с прописной буквы), сердитой, насупленной и сопящей. Это неверно. Для белорусов «сопуха» — это сажа из печной трубы (Носович 1870: 600), явно от слова «сыпаться». Безсонов (и следом за ним Рыбаков) видит в лазне «сени с навесом», «открытую часовню», но в белорусском языке «лазня» — это 'баня'. Имеется ли в виду столб- Купала или некий столб в конструкции «лазни», из песни не ясно. Скорее всего, речь идет о печном столбе (стоуп, тур, конь, стамик), который весьма почитался (см. Зеленин 1991: 300). Сажа естественна, коли речь о печи. Строфа о нечистости добавлена, конечно, уже в христианское время. Так что в песне речь о поклонении банной печи. Поклонение бане и печи у славян хорошо известно (Зеленин 1991: 285, 300, 331, 340, 357, 364, 404, 462). К купальским песня отнесена из-за припева «то-то» и, возможно, из-за времени исполнения. Определеннее другая песня, где о купальских кострах белорусы пели: Не дзеука агонь раскладала, то-то-то! Сам бог агонь раскладау, то-то-то! (Лiс 1974: 72) Текст говорит о вовлеченности бога в празднество. Очевидно, этот бог и был адресатом молитв через посланников. Что же это за бог? Коль скоро обряды языческие, это никак не христианский бог, не Саваоф, хотя бы поздние исполнители обрядов и подставляли его в мыслях на место древнего языческого бога. Судя по содержанию просьб (о дождях) и по прототипу женского персонажа, отправляемого к богу (ведьма), этим богом должен был быть Перун. Можно поддержать этот вывод следующими аргументами: Имя Купалы — новое, придуманное взамен какого-то неудобного. Первое его упоминание относится к середине XVII в., а до того упоминаются те же праздники, но без имени Купалы: в Стоглаве, в послании Панфила, игумена Елеазаровского монастыря, — это начало XVI в. (Соболевский 1910а: 258-266). Впрочем, в рукописи XVI в. из Софийской библиотеки есть такой вопрос: «Чего ради наречеся Иван вечер купальницею...?» (Гальковский 1916: 128). Ответ надуманный, объяснение берется из Ветхого Завета. Откуда произошло название, церковники не знали. Старое имя было либо табуировано самой языческой религией, либо, что вероятнее, стало запретным для гласного почитания в условиях господства христианской церкви. В новом имени отразилось сначала совокупление полов, покровительствуемое патроном праздника, либо поверье о купании солнца, а позже — купание самих участников празднества, привязанное к крестительской миссии Иоанна. Бросается в глаза, что за исключением самого дня Купалы, фиксированного солнцеворотом, для отправления купальских обрядов (перенесенных с Иванова дня), как правило избирается четверг: Масленица — с четверга Сырной недели, Навский Велик- день — четверг Фоминой недели, Семик — четверг, Русальчин Великдень — четверг после Троицы. А четверг, как уже отмечено, — день громовержца по всей Европе. В Великий Четверг (на Страстной неделе) в Костромской губернии девушки на рассвете трижды окунались в воду (Соколова 1979: 75). В масленичных и купальских обрядах видное место занимает солнечное (огненное) колесо на шесте. Казалось бы, это должно быть знаком солнечного бога (у греков — Гелиоса или Феба-Аполлона, у римлян Соля, у славян, видимо, Дажьбога). Но у кельтов этот символ ассоциируется с богом неба и грома Таранисом (от кельтского слова «таран-» — «гром» (Широкова 2000: 291-294). На котелке из Гундеструпа (Ютландия) вроде бы подразумевается, что колесо вращают (рис. 38), и это могло бы символизировать поддержку вращения небосвода или движения солнца по эклиптике. В галло-римское время этот бог слился с римским Юпитером и изображался с молнией в одной руке и колесом в другой (рис. 39)
Рис. 38. Галльский бог неба с колесом, возможно, Таранис. Деталь серебряной пластины с котелка из Гундеструпа (Ютландия, II — I вв. до н. э.)
Рис. 39. Изображение Тараниса-Юпитера с молнией и колесом. Бронзовая статуэтка галло-римской эпохи из Шателе (Франция) И по всей Европе (особенно у итальянцев и немцев) этот знак известен как знак громовержца, иногда назывался «Юпитерово колесо», в славянской этнографии (рис. 40) засвидетельствован как «громовой знак» (изображается на верхних деталях избы — щипце кровли, матице, полотенцах, — чтобы предохранить их от молнии). То же у народов Востока, в частности в дравидской культуре Хараппы (Гуров 1975: 52; Рыбаков 1981: 296-300). Вообще колесо с четырьмя спицами появилось на нашей территории сначала в энеолитической новосвободненской культуре как символ солнца (Резепкин 1991), и лишь тысячелетие спустя — как деталь повозки в ямной культуре, еще без спиц (впрочем, по новейшим данным колесница обнаружена и в новосвободненской культуре). В библейских псалмах Давида иудеи обращались к богу: «Глас грома твоего в колеси, светиша молния твоя вселенную» (LXXVI, 19), и эта формула, вероятно, немало способствовала популярности колеса как громового знака среди христиан.
Рис. 40. Донце прялки с «громовым знаком» («Юпитеровым колесом»). По книге Рыбакова (1981/1997: 49, рис.) Попытка Рыбакова увидеть в колесе со спицами («Юпитеровом колесе») знак бога Рода (1981: 295-307, 305, 307, 455-459) строится на длинной цепочке косвенных аргументов, звенья которой слишком слабы (Род = свет = круглый = сарматское зеркало с шестилепестковой розеткой, или: Род = верховный бог = соответствующие знаки наверху). Роль Индры в повороте солнца на зимуможет, вероятно, лучше объяснить связь громовержца с солнечным колесом (Афанасьев 1869: III: 718), чем привлеченный Рыбаковым узор снежинки (1981: 296; 1997: 401). Как раз Купальские манипуляции с огненным колесом позволяют понять языческую связь этого знака с Громовержцем. Характерный припев купальских песен «то-то-то, ту-ту-ту!», объясняемый этнографами как изображение стука и топота, предназначенного для отгона нечистой силы, может получить и иное истолкование — как имитация грома. Отгон нечистой силы не менее (а даже более) уместен на Святках, чем на Купалу, но там его нет. Перескакивание через костер характерно для купальских праздников, встречается и на Масленицу (в Угличском районе, у западных и южных славян); иногда девушка лишь перешагивает через пепел (Орловская губерния) (Соколова 1979: 20, 27, 35, 36). Предлагалось много объяснений целей и смысла этого обряда (некоторые приведены у В. Я. Проппа 1963: 85-86). Обычно говорят об очистительной, целительной и плодородящей функциях, также связывали с культами огня и солнца. Не вдаваясь в дискуссию, отмечу лишь одну упускаемую исследователями подробность: перескакивание через костер имело у славян определенный магический смысл и вне праздника, и смысл этот, хотя и не очень ясно, зафиксирован записью XVI в. В Чудовском списке пространной редакции пояснений к поучению Григория глосса XVI в. сообщает о суевериях: «и черес огнь скачють, коли гром гримить» (Гальковский 1913: 34). То ли имелось в виду предохранение от удара молнии, то ли перепрыгивание приобретало чудесную силу только при громе, т. е. в присутствии бога-громовержца. Известно также, что углям и головешкам купальского костра приписывалась сила «громовых стрелок» (Афанасьев 1869, III: 720). Здесь явно замешан Перун. Купанье в Ивановскую ночь принято связывать в основном с христианским воздействием, т. е. считать, что этот обычай навеян крестительским саном Иоанна Предтечи, примером крещения, хотя и с опорой на старый языческий культ воды. Но 24 июня по святцам, как уже сказано, — не день крещения, а день рождества Иоанна. Более того, Н. М. Гальковский показал, что в древности в народном сознании купальская ночь (ночь на Купалу) зачастую относилась не к Иванову дню, а к предшествующим суткам, т. е. к 23 июня — песенный припев гласил: «Купала на Ивана» (Гальковский 1916: 39), «сегодня Купайла, завтра Ивана» (Moszynska 1881: 2). Сутки ведь у славян начинались с рассвета, а не как сейчас —с полуночи (Бикерман 1975: 10-11). В отличие от германцев, которые, придерживаясь лунного календаря, отмеряли время количеством ночей и начинали сутки с вечера, у славян время отмерялось (и сейчас отмеряется) количеством дней; «вчера», «вечор» и «вечер» образованы от одного корня, следующие сутки начинаются «завтра», «заутрие», т. е. «за утром». Таким образом, происхождение купальских омовений от крещения сомнительно. Зато известно, что вне фиксированных дат древние славяне спешили умыться водой, которая освящена первым весенним громом, т. е. появлением Перуна. Считается, что такая вода молодит и красит лицо, дает здоровье и счастье. Девицам при первой весенней грозе надо было умыться дождем или водой с золота или серебра и утереться чем-нибудь красным (Афанасьев 1965, I: 110). Царская грамота 1648 г. изъявляла недовольство властей суеверием: «И в громное громление на реках и в озерах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются». Вот в чем, видимо, основа купаний в Ивановскую ночь. Поскольку водными процедурами солнцеворот отмечался не только у славян, само приурочение памятной даты Крестителя к этому времени избрано (в IV-V вв.) византийской церковью, вероятно, именно с учетом этого обстоятельства. В народном представлении об Иоанне могла как-то отразиться его соотнесенность с богом-громовержцем, если таковая была. Такое отражение можно усмотреть в одном из пояснений церковников, вынужденных считаться с народными представлениями о христианских персонажах. Правда, пояснение относится не к Предтече, а к апостолу Иоанну, но простые прихожане вряд ли делали различие между двумя Иоаннами. В рукописном извлечении начала XVIII в. из Жития Св. Андрея Юродивого (из главы «О Богословци о громе и молни») объясняется, почему апостол Иоанн назван сыном Громовым: «гром есть Дух Святый сын бо есть Иоанн Святаго Духа» (Перетц 1899: 13-14). Священное дерево Перуна — дуб. Об этом уже шла речь при перечислении атрибутов Перуна (часть I, глава 3) и при рассмотрении русалок (часть III, гл. 2, пункт 2). Напомню, что связь Перуна с дубом засвидетельствована сообщением немецкого автора XIII в. Гельмольда (I, 83; 1963: 185) о дубах Славии, «посвященных богу той страны Прове» (исследователи предполагают здесь искажение имени «Проне», то есть Перуна), также упоминанием «Перунова дуба» в галицийской поддельной жалованной грамоте якобы 1302 г. — грамота поддельная, но местная достопримечательность приведена в ней лишь как топографический ориентир (Афанасьев 1868, II: 297; Ивакин 1979: 111). У сербов дуб называется грм, грмов, дубовый лес — грмик. Литовцы поддерживали у кумира Перкунаса вечный огонь из дубовых поленьев, а имя Перкун производится от индоевропейского корня querku- «дуб» (латинск. quercus) — у балтов и славян индоевропейское qu- закономерно переходило в п-. В русском заговоре говорится: На море на Кияне, На острове Буяне, Стоит дуб о девяти вершинах, На тех вершинах Престол Господень... (Попов 1903, заговор № 134) Здесь Перун не назван, но число вершин тяготеет к тому же комплексу. Есть немало свидетельств о почитании дуба у славян вообще (без упоминания связи с Перуном) — описание Константином Багрянородным священного дуба славян на Хортице, которому приносились жертвы, упоминание Доброго дуба под Киевом в некоторых списках летописи под 1169 г. и «игорный дуб» зеленых святок на Украине; обличение в духовном Регламенте XVIII в. попов, молебствующих перед дубом и раздающих народу ветви его «на благославение» (Ивакин 1979: 109-110); запрет Феофана Прокоповича (XVIII в.) киевлянам «пред дубом молебни петь» (Гальковский 1916: 63-64). Всему этому, казалось бы, противоречит игнорирование дуба в рассмотренных обрядах — майскими, троицкими, купальскими деревьями служат береза, черноклен и другие, но не дуб. Однако, если вглядеться пристальнее, сквозь наносные формы почитания семицких берез, даже их предпочтения дубам, проглянет более древнее почитание дубов. В самом деле, вдумаемся в текст знаменитой песни: Не радуйтесь дубы, Не радуйтесь, зеленые, Не к вам девушки идут, Не к вам красные, Не вам пироги несут, Лепешки, яичницы, Ио, ио, семик да троица! Радуйтесь, березы, Радуйтесь, зеленые, К вам девушки идут... (Терещенко VI: 164) Из текста явствует, что если бы не специальное песенное предупреждение, то шествие девушек с жертвоприношениями было бы воспринято как направляющееся к дубам, т. е. что это и было нормой. Из нормы сделано исключение, и Пропп (1963: 59) высказал догадку о том, чем оно вызвано в условиях прохладного климата русской лесной полосы: распусканием берез весною раньше других деревьев. Славяне же пришли в эти леса с юго-запада, из местностей с иным составом флоры. Еще красноречивее тот факт, что шест, водружаемый в кругу троицких березок и называвшийся в некоторых местностях Украины «игорным дубом», в других назывался сухим дубом (Афанасьев 1869, III: 302). Такая подмена дуба березой и вообще избегание срубать дубки для праздничных обрядов, очевидно, обусловлены запретом на рубку и пересаживание дубов (там же). Таковы аргументы. Что же касается песни о сухом дубе, свидетельствующей о переносе этого обряда с зимы на весну, то можно в связи с этим поставить вопрос о том, что и зимний солнцеворот (24 декабря, Рождество, начало Святок) отмечался как праздник Перуна. Такая симметрия была бы логичной. И, конечно, там обрядность в честь Перуна совершенно раздавлена христианскими торжествами — оттого «сухой дуб» (сугубо зимний элемент) перекочевал на Троицу. Но прежде, чем обратиться к зимнему празднику, нужно завершить рассмотрение весенне-летних. 4. СМЕРТЬ ПЕРУНАПохороны КостромыЕсть еще два летних русских празднества того же вида, что и рассмотренные: «Ярилки» и «похороны Костромы». Вообще вырисовывается целая серия весенне-летних «проводных» ритуалов — проводы/похороны русалки, Масленицы, Купалы, весны, Костромы, Ярилы, соловушки, крещения, похорон кукушки и прочие. Для них всех характерно структурное и семантическое единство. Зеленин (1916: 258) говорил, что в «русальных проводах» нет ни одного нового структурного элемента по сравнению с обрядами проводов/похорон весны, Костромы, Ярилы и других. Это единство несомненно, и его признают все исследователи, которые этими праздниками занимались (Виноградова 2000: 167). Однако у «Ярилок» и «похорон Костромы» есть и специфика. Они тоже имитируют умерщвление некоего мифологического персонажа, но на сей раз это определенно персонаж мужской. Пропп трактует эти праздники в том же ключе, что и те, с женским персонажем (как обряды плодородия, в которых формировались божества). Коль скоро те оказались по происхождению несколько иными, надо пересмотреть и эти. «Похороны Костромы» еще можно было наблюдать в центральных областях России в XIX в. (Пропп 1963: 86-89). Из соломы делали большую куклу, одевали ее в мужскую или женскую одежду, украшали цветами и несли по деревне похоронной процессией, иногда в корыте — как в гробу. Несли ее старшие сыновья и дочери уважаемых жителей, все окружающие оказывали кукле знаки почтения и печали, но все это — с нарочитой издевкой, на смех. В этом происходило разделение участников: женщины причитали и выражали скорбь, мужчины смеялись. Процессия выходила на берег реки или озера. Там делились на две группы: одна (парни и девушки) становились в кружок для охраны Костромы, другая группа нападала на первую и после схватки овладевала чучелом. Овладев, с него срывали одежду, топтали его ногами и бросали со смехом в воду. Тем временем утратившие Кострому выли и закрывались руками, как бы в отчаянии оплакивая гибель Костромы. Иногда Кострому изображала девочка или девушка. Ее клали на доску, несли, оплакивая, к реке или пруду, там поднимали с доски, и все начинали купаться. На Украине обряд превратился в детскую игру «Кострубонько». Дети становятся в круг, в середине которого избранный из их среды Кострубонько изображает под песни весь ход летних земледельческих работ (пашет, боронит, сеет, косит, молотит, веет, мелет), а потом он умирает, его оплакивают и, взяв за руки и за ноги, бросают в ров. Записана песня, которую пели в момент потопления Костромы: Девица-красавица Водичку носила, Дождичка просила: Создай, боже, дождя, Дождичка частова, Чтобы травыньку смочило, Костроме косу остру приручило. (Пропп 1963: 89) Это было моление о дожде, и по основному содержанию весь обряд не так уж отличался от похорон Мары и Купалы, вот разве что отсутствием огня. Обряд похорон Костромы, насквозь языческий, совершенно не был связан с церковными праздниками и отправлялся в разные сроки — от Троицы до Петрова дня, т. е. с небольшими отклонениями в ту или другую стороны от Купалы, иногда в точности на Купалу. Конечно, это просто результат близкого разброса купальской обрядности, причем отрыв от солнцеворота не позволяет перенести вместе с обрядом и имя Купалы (Купало слишком тесно связан с «купальской ночью»), а, не выведя обряд из-под поста, участники должны были умерить языческую прыть: обряд совершался без трапезы и без эротических вольностей. Однако в эту близкую периферию купальской ночи отфильтровалось и нечто новое по сравнению с дальними ответвлениями — нечто не добравшееся до далекой Масленицы, но и не сохранившееся в самом ритуале Купалы (или скрытое в нем под христианским обличьем). Из-за календарной близости тех вариантов Костромы, которые ушли от Купалы к весне, и типологического сходства иногда смешивали эти похороны Костромы с проводами русалки. В селе Губаровке Сердобольского уезда Саратовской губернии на заговенье перед Петровским постом русалку провожали, изображая похороны. Старухи формировали ржаной сноп в виде человеческой фигуры, обряжали, клали на носилки и, вопя, несли это чучело русалки в ржаное поле, где и оставляли на меже. Во время шествия пели такую песню: Уж ты свет моя Кострома, Государыня Костромушка была, Не Костромушка, кумушка моя! Не покинула при нужди ты меня, При нужди, при старости. (Соколов 1908: 24) Но Кострома, хотя и близка по обрядности и содержанию к проводам русалки, не русалка. Статус ее выше. В одной из похоронных песен, обращенных к Костроме, каждая строфа заканчивалась припевом: «Выдыбай, боже!» Старинное слово «выдыбай» означает 'поднимайся', 'выбирайся (из воды)' — от того же корня, что и слова «дыбом», «на дыбы», «дыба»). Обращение «боже» указывает на божественный статус «Костромы» и совпадает с летописным обращением к Перуну. Поскольку это чрезвычайно важная деталь, а информация 150-летней давности принадлежит И. П. Сахарову (Сахаров 1849: кн. 7, часть 2), автору не очень надежному, существенно, что в данном случае он сослался на источник (Северная Пчела 1842, № 267 — Похороны 1842). Божественный ранг утопляемого персонажа — резкое отличие от тех обрядов, которые рассматривались до сих пор: русалку, Мару, ведьму, сказочную царицу к божествам не причисляли. Слово «боже» (звательный падеж от «бог») указывает также на мужской пол божества. Ко времени этнографических записей сами участники обрядов трактовали Кострому то как мужчину, то как женщину, но поскольку грамматическое оформление этого имени, хотя и допустимое для мужского рода (первое склонение), все же более типично для слов женского рода, то из этого могло проистекать переосмысление Костромы в женщину, трактовка же чучела как мужского персонажа выглядит ныне немотивированной и должна быть признана исконной. Пропп (1963: 133) так и пишет: «Нет никаких сомнений, что исконная форма этой фигуры — мужская». Любопытно, что в костромских лесах такого персонажа как раз не было, его знали южнее, в Среднем Поволжье, так что с названием реки и города Костромы (ср. родственные в том же районе Кинешма, Тотьма и др.) имя персонажа, по-видимому, не связано своим происхождением. Пропп (1963: 88) возводит его к слову «костерь» («костра», «костеря», «кострика»), из ряда значений которого — плевел, метлица, бородка колосьев — он избирает последнее, так как полагает, что суть обряда состояла в «погружении в землю хлебного злака», а сорные травы обрядами не почитались. То и другое не безусловно. Как раз Кострому почти никогда не погребали в землю, а топили в воде. Если «бородка колосьев» и имела здесь значение, то скорее в том же смысле, что и в выражении «борода Ильи» (т. е. обозначая часть лица). Тогда выражение «хоронить Кострому» могло бы звучать аналогично выражению «погребать Ярилину плешь». То и другое — метафоры. В том и другом случае хоронят не бороду и не плешь, а самого бога. Кострикой называются и отбросы от обработки льна (ср. белорусское «кастрычшк» — «октябрь», т. е. месяц уборки льна), а аналогичные отбросы от обработки злаковых — это «солома». Суффиксальное оформление слова (на -ма), очень редкое в коренных русских словах (кроме слова «ведьма» мало сыщется еще), объединяет «Кострому» именно с «соломой» (на выборе слова могло сказаться и существование в языке топонима «Кострома» — новое слово отлилось в привычную для уха форму). Б. А. Рыбаков предложил (1981: 378) считать в слове «Кострома» -ма не суффиксом, а вторым корнем, родственным со словом «мать» (детское название матери: «ма!»), имея в виду «мать сыру землю», и расшифровывал «Кострома» как «поросшая земля». Это предложение оставляет меня в полном недоумении, тем более, что маститый исследователь указал тождественность первых частей слов «Кострома» и украинского «Кострубонько», но, раскрыв исконно славянское значение «-ма», не пояснил, что же означает на каком-либо языке «-бонько». Еще одну возможность подсказывает пословица «Пускай Кострому в Волгу» (Даль 1957: 938). Река Кострома действительно впадает в Волгу. Пословица, примерно равнозначная выражению «пустить щуку в реку», могла подсказать название чучела, пускаемого в реку. Но тогда обычай должен был зародиться в Костромском Поволжье, а пока его следов там не обнаружено. А вот солома играла огромную роль в обрядах, особенно похоронных и жертвенных. Во всех огненных действах — от Масленицы до Купалы — жгли именно солому и чучела делали больше всего из соломы. Вероятно, в льноводческих областях солому заменяли отбросы льна. Эвфемистическое именование чучела по ритуально обусловленному материалу взамен табуированного имени бога могло закрепиться и стать именем утратившего божественный ранг персонажа. Что за бог это был? Судя по восхождению обрядов к купальским, под именем Костромы скрывался тот же бог, который почитался купальскими обрядами и которого заместил Иоанн Креститель. Как мы видели, есть веские основания полагать, что это Перун. ЯрилкиЯрилу (в районе Суздаля его называли Яруном) чествовали праздником в коренных русских областях (Афанасьев 1865, I: 112; Ефименко 1869; Соболевский 1910а: 266-270; Померанцева 19756; Этерлей 1978: 113; Соколова 1979: 180-181, 250-252). Этнографам информанты сообщали о гуляниях в «Ярилин день», называемых «ярилки», когда полагалось «Ярилину плешь погребать». В топонимике сохранились в ряде местностей названия Ярилина гора, Ярилина роща и проч., видимо закрепившиеся за местами гуляний. Самое раннее упоминание Ярилы содержится в увещевании св. Тихоном Задонским жителей Воронежа. «Из всех обстоятельств праздника сего видно, что древний некакий был идол, называемый Ярилой, который в сих странах за бога почитаем был, пока еще не было христианского благочестия» (Гальковский 1916: 41). В Воронеже Ярилу изображал кто-либо из жителей. Его украшали цветами и обвешивали колокольцами и бубенчиками, в руки ему давали колотушку, и все шествие сопровождалось стуком в барабан или лукошко. Но чаще, в других местах, все-таки Ярилу представляло чучело. Гальковский отмечает предание, что близ Галича на горе стоял идол Ярило, в честь которого совершался трехдневный праздник в неделю всех святых. Имя Ярилы — явно производное от глагола «яриться», т. е. возбуждаться, пылать, приходить в ярость, входить в страсть (Этерлей 1978). Гальковский (1916: 41) дает этому глаголу синоним «иметь похоть», ссылаясь на то, что в Смоленске «яруном» называли быка-оплодотворителя. При этом, если ныне преобладает смысл, выражаемый синонимами «гневаться», «сердиться», «пылать» (прилагательные «яркий» и «яростный»), в древности преобладали сексуальные оттенки — в ярильных обрядах они ясно выражены фаллическим оснащением чучела. Праздник состоял в том, что ночью на холме над рекой жгли костры, угощались у костров, парни и девушки купались, потом бросались крашеными яйцами, придавая этому некий скабрезный смысл. Молодежь гуляла всю ночь, и гулянье носило в прошлом разнузданный характер — допускалась необычная половая свобода. Центральный момент ритуала — «погребение Ярилы», или «похороны Ярилиной плеши». Как пишет Пропп, «обряд его похорон обычно в точности соответствует обряду похорон Костромы». Однако есть одно существенное отличие: это отчетливая эротичность. Фаллическое чучело Ярилы — «с ярко выраженными мужскими атрибутами» — клали в гроб и «с плачем и воем» опускали в могилу. В Костроме Ярилу изображала небольшая кукла «с огромным детородным удом». Гроб с куклой старик в поношенном платье нес на руках, его сопровождали женщины, которые причитали и жестами выражали скорбь. Затем в поле совершалось погребение, после чего сразу же начинались игры и пляски. Иногда вылепленные из глины куклы (Ярилу и Ярилиху) разбивали и сбрасывали в воду. У казаков до вечера все гуляли у шинка, с темнотой выносили на улицу соломенное чучело мужчины «со всеми естественными частями» и клали в гроб. Подымавшие женщины подходили к нему, рыдали: «Помер он, помер!» — и смотрели на чучело «с любострастием». Мужчины же отпускали шуточки о том, что влечет бабу к Яриле: «Вона знае, що йи солодче меду». Чучело уносили и хоронили. Выражение «ярилина плешь», «ярилова плешь» вовсе не означало лысину. Нигде и никогда расставание и прощание с лысиной покойного специально не подчеркивалось. В русском просторечии слово «плешь» было популярным эвфемизмом: оно относилось не к голове, а к обнаженной головке полового члена (в таком смысле оно употреблялось в похабных стихах Баркова; о том, что эти названия «имеют в виду фаллус», писал и Зеленин — 1995: 271, прим. 33). Иногда и сам персонаж назывался не Ярила, а Плехан (Зеленин 1916: 258; 1991: 399). Ярилин день не имел прочного и единого места в календаре. Чаще всего этот праздник справляли в петровские заговены, 29 июня, т. е. сразу по окончании апостольского поста, но иногда—в последнюю субботу, в ночь на воскресенье, перед этим постом, т. е. в ночь на Троицу. В Пошехонье за неделю до Иванова дня отмечали «молодого Ярилу», а перед самым Ивановым днем — «старого Ярилу» (Померанцева 1975а: 128). То же самое указано в Нижегородской губернии (Некрылова 1989: 235). Практически «старый Ярила» совпадал с Купал ой. Имя Ярилы на Украине неизвестно. Единственное же сообщение из Белоруссии относит празднование 1846 г. в честь Ярилы к 27 апреля ст. ст., но празднование очень отличается от всего, что известно в России: у белорусов, по этому уникальному сообщению, участники празднества украшались венками из листьев, Ярилу изображала девушка на белом коне, привязанном к столбу, а вокруг нее водили хоровод. Скорее всего, сказалось воздействие Егорьева дня, с его первым выгоном скота и вовлечением коней в ритуал (Георгий изображался на коне). Как показывают календарные расчеты, праздник 1846 г. состоялся в первую субботу (вероятно, в ночь на воскресенье) после Егорьева дня. Ярилу белорусы представляли молодым, красивым, в белой рубахе на белом коне, босым, с человеческой головой в правой руке и ржаным снопом в левой. Западные славяне отмечали 15 апреля (нов. ст.) день Яровита. В. В. Иванов и В. Н. Топоров (1965: 122-124; 1970: 354-356) предполагают родство этих персонажей и праздников. Если это и так, то связь с русским Ярилиным днем не очевидна. Опираясь на сообщение о регулярном праздновании 4 июня на горе в местности «Ярило», пригороде Нижнего Новгорода, Б. А. Рыбаков (1981: 522-524) считает, что эта дата и была исконным Ярилиным днем: в это же число в XII в. (в 1121 г.) засвидетельствовано (но единожды) разнузданное гулянье нескольких тысяч человек «Житием Св. Отгона». Между тем, это совпадение может быть и случайным — просто выдался просвет в христианской активности за 20 дней до Ивана Купалы. Рыбаков (1962а) ссылался еще и на отметку, якобы в день 4 июня, в «календаре» Черняховской культуры, который он полагает славянским и прочитанным. На деле сосуд с этими знаками относится к Черняховской культуре, созданной в основном готами под римским влиянием, что давно и основательно доказано (Щукин 19766, 1977). В культуру эту вошел сарматский субстрат, славянский же вклад не выявляется. Расшифровка знаков, предложенная Рыбаковым, также сугубо гипотетична. Во всяком случае, наложение показанного на рисунке 4-членного «календаря» на годичный 12-членный в качестве четвертой части последнего (один квартал?), да и способ наложения совершенно бездоказательны, а без этого нет ни малейшей уверенности в отметке 4 июня «деревцом» на изображении. Любопытно, что Ярилин день отмечался там, где Купалу не праздновали (Васильев 1994: 48). В. К. Соколова, сопоставив «ярилки» с Купалой по формам праздника (похороны чучела или куклы, костры, купанья, вольности) и отметив близость их по срокам, резонно предположила, что «ярилки» — это те же купальские торжества, только вытесненные постом на соседние, свободные участки календарной шкалы (Соколова 1979: 251—252). Это подтверждается тем, что в Ярославской, Тверской и других губерниях праздник Купалы и назывался Ярилой (Афанасьев 1865, III: 713). Иначе говоря, те обряды, которые не вышли из-под поста, утратили эротизм и оформились в «похороны Костромы», те же, которые оказались за пределами петровского поста, сохранили исконный эротизм и стали известны как «похороны Ярилы». Характерно, что по письменным источникам Ярило не известен ранее середины XVIII в. — первое упоминание в поучении Тихона Задонского в 1763 г., а «древние источники упорно молчат о Яриле» (Соболевский 1910а: 266-270). С другой стороны, Ярило есть у сербов (Филипови!) 1954а), так что это имя персонажа имеет если не общеславянские корни (и соответствующую древность), то общеславянское применение (возможно было употребительно как эпитет божества). По обряду (похороны куклы с четко обозначенным мужским половым органом) Ярило совпадает с болгарским Германом, румынским Калояном, и очевидно, что имя Ярило столь же поздно пристало к персонажу с членом, как не являются исконными для него и имена епископа Германа или Иоанна Крестителя («прекрасного Иоанна» — Калояна). Но имя Калояна, по крайней мере, дает указание на Ивана Купалу. Всего же более в пользу вывода Соколовой о «знаке равенства между Купалой и Ярилой» говорит то, что праздники в честь Ярилы проводились как раз в тех местностях, где Купалу не праздновали — в основном в Северо-Восточной Руси, в землях вятичей, а там, где сохранились празднества Купалы, там нет или почти нет Ярилы. Возникает вопрос, почему эти обряды, в отличие от обрядов с колесом (Масленица, проводы русалки), оказалось возможным не отодвигать далеко к началу года. Вероятно, просто потому, что это та часть обрядов, которая не должна была воздействовать на небесные тела, не должна была непременно предшествовать солнцевороту и ей не приходилось обеспечивать для этого постоянное место в календаре. Кострому прямо называли богом, Ярилу так не называли, но эмоциональность и экспрессивность его оплакивания приводит к мысли, что и под Ярилой скрывается некий бог, чье имя было табуировано, а в христианское время попросту запретно. Что же это был за бог? Многие исследователи выделяли Ярилу как древнее восточнославянское языческое божество наряду с Перуном, Волосом, Мокошью, Ладой и т. д. Судя по восхождению и этих обрядов к купальским, под именем Ярилы также скрывался бог, который почитался купальскими обрядами и которого заместил Иоанн Креститель. «Похороны Ярилы» мало отличаются от «похорон Костромы», разве что большей эротичностью. Если так, то и Ярило вначале лишь эпитет Перуна, затем его ипостась. Есть ли основания полагать в славянском громовержце такую причастность не только к плодородию растительности, но и к сексуальной активности самих людей и представлять себе его в облике фаллического персонажа? Да, есть. Прежде всего, такая у Перуна наследственность: все индоевропейские громовержцы более или менее таковы. Известны многочисленные любовные авантюры Индры и Зевса (причем именно с нарушением супружеских уз, с нарушением половых табу). Самый близкий к Перуну-Перкуну Парджанья предстает тесно связанным с плодородием в обращенном к нему гимне (Ригведа 1999: V, 83, 1, 4): Призывай сильного (бога) этими хвалебными словами. Славь Парджанью! Старайся расположить (его) поклонением! Громко ревущий бык, источающий живительную влагу Вкладывает семя в растение как зародыш. …………………………….. Веют ветры, падают молнии, Расправляются растения, набухает небо. Рождается свежесть для всего мира. Когда Парджанья насыщает землю своим семенем. Молот Тора считался воплощением фаллоса (Paulsen 1956: 205-221). Ваджра Индры, по крайней мере, выступала как символ плодовитости (Елизаренкова 1972: 285). В скандинавских петроглифах бронзового века бог с боевым топором-молотом изображался итифаллическим (Gudnitz 1962: 27, 38, 51, 79, 89, 90-91, 93 figs). Далее, в восточнославянской этнографии зафиксирован архаичный языческий способ бракосочетания: жениха с невестой обводят вокруг дуба — дерева Перуна (Терещенко 1848, 2: 28). Еще в начале XX в. в Бобровском уезде Воронежской губернии после церковного венчания проводили обход дуба: «Молодые после венчанья, непосредственно выйдя из церкви, едут к дубу, стоящему недалеко от села, и три раза объезжают вокруг него. Этот дуб очень древний. Он уже усох, но не потерял уважения» (Гальковский 1916: 54-55). В числе заговоров для любовной присушки — заговор под дубом: «Есть на восточной стране высокие горы, на тех горах стоит сырой дуб кряковатый; стану я под тот сырой дуб кряковатый и поклонюся буйным Ветрам: ой же вы, буйные Ветры! повейте вы на меня и обвейте вы *** хоть, плоть и горячую кровь и ретивое сердце, и свейте вы душу и помышление, тоску и сухоту. И обвейте вы, Ветры буйные, мою полюбовницу в ее белое лицо... Как быки скачут на корову, так бы (имярек) бегала, искала меня — бога бы не боялась, людей бы не стыдилась, во уста бы целовала, руками обнимала, блуд сотворила...» (Афанасьев 1865, I: 114). Таким образом, сходство праздников Купалы, похорон Ярилы, проводов Костромы и других, которое Пропп объяснял их общей нацеленностью на земледельческую магию, а Виноградова (1995) объясняла общей принадлежностью к «обрядам перехода», направленным на души умерших, — это сходство праздников, рассыпанных по году, особенно по зимне-весенней половине, оказывается просто их ответвлением от одного и того же празднества, связанного с Перуном. В тех, где Перун не присутствует сам, где хоронят не его изображение, действие развивается вокруг причастных к нему женщин (ведьм, русалок) или посланцев к нему (жертв). С. М. Толстая в работе «Похороны как вторичная ритуальная форма» (1985) и выделила пародийные похороны как ведущий и объединяющий элемент этих праздников (Святки, Масленица, Кострома и др.). В этой работе и в совместной с Н. И. Толстым работе «Вызывание дождя» (1978/1995) она обратила внимание на то, что, по крайней мере, некоторые виды этого обряда (южнославянский Герман, восточнославянские похороны животного (лягушки, рака и т. п.) имеют четко выраженную функцию — вызывание дождя (иногда остановку дождя). То есть (остается добавить) явно обращены к Перуну. Проводы Перуна — этнография и летописьОднако, признав Ярилу Перуном, мы оказываемся перед неожиданной картиной похорон Перуна. И здесь самое время вспомнить, что в кавказской передаче в конце концов Пиръона-Перуна постигла смерть. Перун был убит, и какую-то роль в этом сыграла ведьма. Легенда о смерти Перуна сохранилась и в Болгарии, правда, в поздней и очень путанной передаче. Написанная в 1792 г. Спиридоном «История во кратце о болгарском народе словенском» содержит главу «О Перуна или пеперуда, краля болгарского». Автор придерживается принципа эвгемеризма: языческих богов считает древними царями, обожествленными невежественным простонародьем. Было некогда царствование Лады. «По смерти Ладовой наста Перунд или Пеперуд». Этот царь взимал дань с македонцев при Филиппе, пока не подрос Александр. «Когда же возмужився, Александр поиде на Перуна и войску его разби и Перуна уби, и два сына его заруби. И сего Перуна болгары почитают: во время бездожия, собираются юноши и девицы, избирают единаго или от девиц или юношах и облачают его в мрежу аки в багряницу, и сплетут ему венец от бурянов в образ краля Перуна и ходят по домах, играюще и спевающе часто поминающе беса того, и поливаются водами и Перуна того и сами себе; люди же бездумнии дают им милостыню, они же, собравше милостыню тую, купуют ястье и питие и делают трапезу, ядят и пиют во славу Пеперуда того» (Спиридон 1900: 14, цит. по Державин 1929: 46). Нетрудно узнать здесь описание обхода домов с пеперудой в честь Перуна. Пеперуду Спиридон путает по созвучию с Перуном (Спиридону это простительно, если и ученые нашего времени не удерживаются от совмещения этих имен). «Пеперуда злата» — название бабочки, слово женского рода. Мы знаем, однако, что в этих обрядах болгары и их балканские соседи действительно хоронили куклу некоего мужского персонажа, которого болгары и сербы называли Герман, Германчо, а романцы и греки — Скалоян или Калоян, Кало Ян. В основе, вероятно, греческое Калос Иоаннос «Прекрасный (хороший, благой) Иоанн», т. е. персонаж, совпадающий по имени с Иоанном Предтечей (Крестителем), Иваном Купалой. Поскольку без этого балканского персонажа у Спиридона не было бы надобности и возможности говорить о смерти Пеперуды-Перуна и отождествлять ее с каким-либо древним полководцем, совершенно ясно, что все это относится именно к этому оплакиваемому мужскому персонажу — Калояну. А между тем, все это приурочено и к имени Перуна. Историк Болгарии отнес Перуна в глубокую древность — ко времени Александра Македонского — и отождествил с каким-то древним царем, имевшим двух сыновей и потерпевшим, по исторической легенде, поражение от Александра. Мотивировка отождествления неизвестна, да и не важна. Важно другое: в XVIII в. еще сохранялось в Болгарии представление о том, что оплакиваемый и погребаемый мужской персонаж — не просто жертва, посланец, а олицетворение самого Перуна, похороны же, как-то связанные с днем летнего солнцеворота (Купало), воспроизводят смерть некогда убитого бога. А поскольку почитание бога продолжалось (и «Пеперуда злата пред Перуна лята»), то, значит, бог умер не насовсем, он умер, чтобы воскреснуть и с каждым ежегодным олицетворением он снова умирает, чтобы воскреснуть снова. Эти умерщвления драматически воспроизводились в сценах погребения бога, воплощенного в антропоморфных изображениях — куклах, чучелах, статуэтках с гипертрофированными мужскими признаками. И тут всякому должно броситься в глаза разительное сходство между этими сценами и известной картиной низвержения языческих идолов в Киеве и Новгороде, как она описана в «Повести временных лет». Сходство столь велико, что позволяет истолковать летописный рассказ по-новому — исходя из нового представления о характере культа Перуна. Осенью 980 г. в Киеве на холме вне дворца теремного по велению князя Владимира Святославича были поставлены деревянные статуи 5 или 6 языческих богов (по тексту неясно, различные ли фигуры Хоре и Дажьбог или это один персонаж). Во главе этого пантеона стоял Перун с серебряной головой и золотыми усами. Идолы были водружены не впервые: уже в 945 г. князь Игорь приносил клятву в Киеве же возле идола Перуна. Много написано о «первой религиозной реформе» Владимира, о ее целях и задачах, но, скорее всего, это не было реформой. Водружение кумиров последовало сразу же за взятием Киева, убийством Ярополка (11 июня) и вокняжением Владимира. Западные источники сообщают о крещении папским нунцием некоего «царя Руси», по всем признакам совпадающего с Ярополком (убил брата, другой брат живет отдельно) (Пархоменко 1913: 158-170; Мавродин 1945: 295; Назаренко 2002: 371-390), а русская летопись знает о приходе в 979 г. послов «из Рима от папы». Боровшийся со своим старшим братом Ярополком за власть над Киевом, Владимир, тогда князь Новгородский, естественно, должен был ухватиться за религиозное отступничество старшего брата как за повод для его низложения. Недаром Ярополк вынужден был бежать из Киева (в Родню, где и был осажден, а затем сдался и был убит). Видимо, водружение кумиров было просто восстановлением язычества. Новым статуям совершали требы и жертвы. Один раз после победы над врагами в 983 г. принесли человеческую жертву — по жребию зарезали девицу и юношу-христианина. Идолы простояли полных 7 лет. На восьмой год, когда Владимир решил крестить Русь, их свергли. Дата этого события не очень надежна. По летописи, Владимир крестился в Корсуни (Херсонесе, Керчи) в 988 г. и, вернувшись оттуда, первым долгом снес в Киеве кумиров, а затем загнал г киевлян для крещения в реку неволей, «аки стада». Но «корсунекая легенда», как показано тщательным анализом источников (Пресняков 1938: 99-114; Жданов 1939), была искусственно сфабрикована позже пришлыми греческими священниками — «корсунскими попами» Десятинной церкви — в конкурентной борьбе за влияние. На самом же деле, как полагали А. А. Шахматов и другие исследователи, Владимир крестился раньше, и не в Корсуне (греч. Херсонес), а на Руси, возможно, в церкви Св. Ильи в Киеве (Рорре 1976: 238-241). В конце 987 г. (мартовского) он заключил договор с византийским императором Василием II Болгаробойцей. По договору Владимир поставил находившемуся в отчаянном положении императору 6-тысячный отряд для подавления восстания, а император за это пожаловал князю чин стольника византийского двора и, что важнее, отдавал за него замуж свою сестру Анну, ради чего Владимир переходил в христианскую веру. По ряду совпадающих подсчетов, Владимир крестился немедленно в конце 987 г., приняв при крещении имя Василия, явно в честь императора. Но византийцы, избавившись от опасности, не спешили выполнять условия договора. Тогда Владимир летом 989 г. взял приступом византийский форпост в Крыму Корсунь (Мавродин 1945: 331) и пригрозил осадить Царьград (Константинополь). Византийцам пришлось смириться с необходимостью выдать царевну за «варвара». Корсунь был отдан киевскому князю в приданое, и Анна прибыла в Киев в сопровождении «корсунских попов». Вот когда киевлян загнали в реку, а на месте свергнутых кумиров была поставлена церковь Св. Василия (это святой патрон мужа и брата новой княгини). Возвращение Владимира из Корсуни состоялось не ранее осени 989 г., приезд Анны с попами — минимум несколько месяцев спустя, так что массовое «заганивание» киевлян в реку не могло состояться раньше лета 990 г. (не зимою же!). Окончательное низвержение кумиров, привязанное летописцем к возвращению Владимира из Корсуни, произошло между осенью 998 г. и летом 990 г. Если перед тем, в 988 г., семь с лишим лет после водружения кумиров их и впрямь сбрасывали (неизвестно, происходило ли это событие помимо крещения, но откуда-то же вошла в летопись отдельная дата), то это было не окончательное отречение от них, а нечто иное. Личное обращение князя в христианство не требовало от него немедленного разрушения языческой святыни «вне двора теремного», почитавшейся его подданными, — он мог мириться с нею, как мирилась его бабка Ольга, приняв христианство, и довольствоваться очищением своего двора от языческих идолов. Мы знаем, что Владимир Святой, с его то ли пятью, то ли двенадцатью женами и многими наложницами, до конца жизни так и не стал вполне христианином — он заявил греческим епископам, что желает жить «по устроению отню и дедню»; он и похоронен был с соблюдением языческой обрядности (тело выносили через пролом в стене). Никто сейчас не сомневается, что рассказ о том, как Владимир испытывал веры, — легенда. Прослежены ее фольклорные истоки. Но что перед сменой религии «созва Владимир боляры своя и старци градьские» и совещался с ними — это считается реалистичным. Вряд ли Владимиру, его боярам и старейшинам был резон рушить кумиров и оставлять горожан без религии до прихода византийской царевны с ее попами. Да и не в натуре тогдашнего человека было оставаться значительное время без покровительства каких-то богов. Что же происходило с кумирами до крещения? Летописец повествует, как Владимир после корсунского похода, «яко приде, повеле кумиры испроврещи, овы исещи, а другыя огневи предати; Перуна же повеле привязати коневи к хвосту и влещи с горы по Боричеву на Ручаи, и 12 мужа пристави тети жезлиемь (избивать палками)... Влекому же ему по Ручаеви к Днепру, плакахуся его невернии людие... И привлекше и (его), вринуша и в Днепр. И пристави Володмер рек: «аще кде пристанет вы, то отревайте и от берега, доньдеже порогы проидеть, ти тъгда охабитеся (избавитесь) его». Они же повеленая створиша. И яко пустиша и пройде сквозе пороги, и извьрже и ветр на рень (отмель), и оттоле прослу (прослыла) Перуня Рень, яже и до сего дьне словеть». Последние слова показывают, что весь рассказ поступил к летописцу как топоэтиологическая легенда (легенда о происхождении конкретного местного названия), стало быть из устного предания. Летописца, автора XII в., от самих событий отделяло почти полтораста лет — примерно, как нас от Крымской войны и отмены крепостного права. О точности полученных летописцем изустно подробностей крещения можно судить по точности современных семейных преданий о крепостном праве, а в сути действий язычников, еще не приобщенных благодати, летописец вряд ли разбирался лучше, чем современный атеистически воспитанный интеллигент — в символике литургии. Уже самому летописцу кое- что показалось не вполне естественным в сведениях предания, и он ввел пояснения этих мест в свой рассказ. Так, с какой стати Владимир повелел 12 мужам, чтобы на пути Перуна по Боричеву спуску они избивали его палками («тети жезлием»), если для настоящего христианина, как для варяга- отца, не желавшего отдать сына в жертву кумирам, «се не боги, но древо»! Летописец почувствовал эту неловкость и пояснил: «Се не яко древу чующу, но на поругание бесу, иже прелыцаше симь образом человекы, да возмьстие прииметь от человек...». Между тем, 12 мужей, избивающих идола «жезлием», очень напоминают 12 болгарских «старцев», организующих рождественские или новогодние русалии, и 12 русальцев, которых св. Нифонт встретил на площади возле церкви. И еще несообразность: почему горожане, стоя по берегам Ручья и Днепра, оплакивали Перуна на его скорбном пути вместо того, чтобы, при виде позора и бессилия кумира, уверовать в христианскую истину и возликовать? Летописец считает нужным привести извиняющее обстоятельство: «еще бо не бяху прияли святаго крещения». Можно было бы также спросить, зачем Владимиру нужно было так заботиться о том, чтобы кумир не пристал к берегу выше порогов. Не значит ли это, что для Владимира и поверженный кумир оставался опасной силой, а место, где кумир пристанет, оказалось бы под его магической властью? Пристал к мели — и та сразу и навсегда стала Перуней! Создается впечатление, что Владимир твердо верил в изворотливость идола — в то, что тот не утонет и не поддастся течению, но непременно вывернется и пристанет. А избавиться от него («охабиться») необходимо. Но у современного исследователя возникает еще один вопрос: почему с другими кумирами расправились иначе — одних велено было иссечь (видимо тех, что из камня), других (деревянных) — сжечь, и только Перуну было уготовано дальнее плаванье? Рыбаков (забыв о том, что заменил на троне Перуна Родом) полагает, что все это из особого уважения как к главе пантеона; он даже сопровождающих с «жезлием» называет «эскортом из 12 дружинников» (хотя те избивают кумира). Д. А. Мачинский (1981) объясняет дело иначе: как бог воинов Перун неуязвим для оружия, а как громовержец — несгораем, поэтому его предали чуждой для него стихии — воде, подведомственной его врагу Велесу. Это тоже не очень убедительно. Оставим в стороне крайне сомнительное опознание в Велесе главного врага Громовержца по схеме т. н. «Основного мифа». Мы уже видели, что Перун не вовсе чужд земным водам, да и не так бы надо было поступать, чтобы погубить его с помощью воды: ведь тогда надлежало бы позаботиться о навязывании груза и утоплении, а не о сплаве. Еще в 1937 г. А. Краппе предположил, что летописное предание о низвержении кумиров и погружении Перуна в Днепр основывалось на ежегодном обряде купания его в Днепре, а это обряд вызывания дождя, известный у многих народов (Кгарре 1937). Но обряд вызывания дождя — окказиональный, применяется не ежегодно, а по случаю. Обычно он состоит в жертвоприношении, утоплении жертвы. Ежегодными же являются календарные обряды. То, что описано в летописи, это не утопление или другая погибель, а скорее изгнание, удаление по воде, и, возможно, что лишь в христианском переосмыслении — навсегда. Ведь здесь налицо те же компоненты действа, что и в этнографически описанных проводах Костромы, Ярилы, Купалы, Германа и проч., фиктивных похоронах: деревянное изображение мужского персонажа, ублажение идола, деление участников на две группы, одна набрасывается на идола и терзает его, другая оплакивает, и, наконец, идола бросают в реку. Это наблюдение опубликовано мною в середине восьмидесятых годов (Клейн 1985а: 122; 1985в: 49). Через три года ему возражали Фроянов и др. (1988: 33). Они акцентировали внимание на унижающих процедурах: привязка к хвосту коня, волочение, «12 мужей», приставленных избивать палками (исследователи сопоставляют это с судебным «изводом пред 12 человека»). Фроянов и др. считают, что это говорит за окончательное низвержение кумиров и приравнивают его к суду над ведьмами (с испытанием водой — утонет, не утонет). Но ведь унижающие действия наличествуют и в календарных обрядах проводов: провожаемого избивают, терзают, разрывают в клочья. Десятилетие спустя мое наблюдение повторил М. А. Васильев (1994; 1999а), не заметив моей публикации. Можно было бы и ограничиться этим замечанием, но уж очень этот автор негодовал, увидев аналогичные огрехи у Аничкова, Гальковского и Обнорского, даже посвятил этому специальную работу (Васильев 2000: 75). «История науки, — отметил он, — изобилует примерами независимого повторного выдвижения одних и тех же идей разными людьми в различные эпохи, повторных открытий. При этом имена первооткрывателей, как и сам факт сделанного ими, нередко оказываются незаслуженно забытыми...». Он объяснил это леностью. Мне оставалось бы присоединиться, если бы оплошность не оказалась тотчас исправленной: в работе 1994 г. сделана глухая ссылка на мою публикацию (видимо, в последний момент), а в книге 2000 г. Васильев подробно цитирует мою работу и признает ценность наблюдения. В целом работа Васильева очень хороша — доскональна и вдумчива. Есть, правда, различие между нами в интерпретации наблюдения. Васильев (1994; 1999а; 2000: 227-231) отвергает мое объяснение и склоняется к такой трактовке: князь Владимир просто использовал для свержения идола Перуна испытанные обрядовые приемы проводов, изгнания, уничтожения злых духов. Примерно то же самое предполагает и Л. Войцеховский (Wojciechowski 1998), рассматривая три вида умерщвления языческих богов — утопление, сожжение и иссечение — с точки зрения использования языческих традиций. Моя трактовка несколько иная. Мне представляется, что тут смешаны повествования о разных событиях. Летописец не понял суть устного рассказа своих информаторов и принял описание ежегодного (или более редкого, но ' все же периодического) ритуала «проводов Перуна» за уникальный эпизод ликвидации языческих кумиров при крещении Руси. Такое толкование летописного рассказа может быть подтверждено одной красноречивой деталью: по позднему пересказу из западных земель («Синопсис» и хроника Софоновича) какого-то предания, возможно, утраченной летописи, народ кричал кинутому в Днепр идолу Перуна: «Выдыбай, господ(ар)у наш боже!» «Господару» — это польское влияние на передачу сообщения. Но само сообщение не польское, а киевское. В «Синопсисе» оно привязано к объяснению названия Выдубецкого монастыря: местность Выдубичи якобы была сначала Выдыбичи — это топоэтиологическая легенда (см. Прискока 1983). На самом деле местность в 1070 г. (по Ипатьевской летописи) называлась Выдобычи. В остальном это тот же в точности призыв, который сохранился в песне, сопровождающей в Центральной России «похороны Костромы». В песне призыв звучит в тех же словах: «Выдыбай, боже!» Есть, однако, сомнения насчет термина «выдыбать». Как пишет О. В. Прискока, оно отсутствует во всех словарях древнерусского языка, то есть похоже, что его не было до XVII в. в значении 'выплывать'. «Дыбать» есть во всех славянских языках только в значении 'ковылять', 'едва идти', 'бежать нерезво'. По мнению Прискоки (1983: 103), это опровергает сообщение «Синопсиса» и «Хроники». На деле это лишь меняет смысл народного обращения: не «выплывай» (что, собственно, бессмысленно: Перун ведь и не тонул), а «выбирайся из воды, ковыляя», «выкарабкивайся» (что естественно в обращении к измученному долгим плаваньем субъекту). Подобное значение мог иметь и призыв к Костроме в народной песне (если это не мистификация, опирающаяся на тот же «Синопсис» — но с какой целью?). Как раз неправильный перевод этого слова автором «Синопсиса» (по догадке) говорит о том, что он не выдумал эту легенду, что он передает какое-то предание, хотя насколько древнее — неизвестно. Но пусть слова и другие, более поздние, смысл рассказа все же древний. Все оплакивания умирающего бога (или другой священной фигуры) строились на изображении оплакиваемого жалким, бедным, лишенным сил и счастья (Арсеньев 1912). Если совпадение унижающих и обезвреживающих действий с обрядовыми еще может быть объяснено применением к идолу привычной магии, то совпадение оплакивания с песенным обрядовым оплакиванием вряд ли может быть объяснено использованием обряда князем в историческом событии. Это скорее сам обряд, перенесенный летописцем на историческое событие. В расчеты князя, заинтересованного в избавлении от идола, могла входить уничижительная часть обряда, но не та его часть, которая выражалась в печаловании и оплакивании языческого бога. А теперь посмотрим, что происходило тогда же в Новгороде. Взяв Киев в 980 г., Владимир поручил управление Новгородом своему «ую» (дяде с материнской стороны) Добрыне. «И пришед Добрыня Ноугороду, постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье ноугородстии аки богу». Через 11 лет, в 991 г., пришла и пора новогородцев принять крещение следом за Киевом. «И приде к Ноугороду архиепископ Аким (в I Новгородской летописи: Яким Корсунянин), и требища разори, и Перуна посече (в I новгородской летописи добавлено: что в Великом Новеграде стоял на Перыни) и повеле воврещи в Волхов. И повязавше ужи, влечахуть и по калу, биюще жезлием и пихающе. И заповеда никому же нигдеже не прияти. И иде пидьблянин (житель из района притока Волхова реки Пидьбы. — Л. К.) рано на реку, хотя горнци вести в город. Али Перун приплы к берви, и отрину ишистом: «Ты, рече, Перушице, досыти еси пил и ял, а ныне поплови прочь». И плы со света окошьное» (Mansikka 1922: 62; НПЛ 1950: 159-160). Здесь опять же в тексте неустранимое противоречие: архиепископ Иоаким «посече» кумира, из чего можно было бы заключить, что кумир был каменный и что во всяком случае он уничтожен. Но затем к этому уже уничтоженному кумиру привязывают канаты (ужи), влекут его в реку, точно так «биюще жезлием», как в Киеве, и затем кумир плывет по течению (стало быть, он деревянный). Совершенно очевидно, что здесь соединено два рассказа: официальное сообщение об энергичных действиях архиепископа по искоренению язычества и устный бытовой рассказ, возможно, потомков того же жителя Пидьбы, о том, что проделывали с идолом Перуна. И этот бытовой рассказ — вовсе не обязательно об окончательном отречении от Перуна. В обращении пидьблянина к Перуну — соединение ласковости с пренебрежением. Это сказывается и в самом прозвании бога. Есть мнение (Гиндин 1981: 87), что Перушице — это результат табуирования основного имени бога. Но здесь типичное для русских имен формообразование: Перушице — от ласкового Перуша (ср. Петр — Петруша, Артем — Артюша), но дополненного уменьшительным формантом -ца (зват. падеж -це), как в каша — кашица (также: грязца, прохладца, книжица, лужица, рожица, землица; мужск. род: умница, возница, пьяница, опойца). Это близко современным Петрушка, Артюшка. Фамильярность и бесцеремонность пидьблянина — вполне в духе проводов Костромы, Ярилы и проч. На Руси всегда почитание богов перемежалось расправами с ними: «Взял боженьку за ноженьку, да и об пол», — гласит пословица. В I Новгородской летописи содержится интересное добавление к повествованию о том, как влекли Перуна в реку: «и в то время вшел бе в Перуна бес, и нача кричати: о горе, горе мене! достахся немилостивым сим рукам! И вринуша его в Волхов. Он же пловя сквозе великий мост, верже палицю свою и рече: на сем мя поминают новгородскыя дети, его же и ныне безумнии убивающеся, утеху творят бесом... Порази же слепотою новгородцев, яко оттоле в коеждо лето на том мосту люди собираются и разделившеся на двое играюще убиваются» (ПСРЛ II: 258, III: 207, V: 121; НПЛ 160). Летописец не сомневается в том, что идол Перуна кричал горестные слова, он только объясняет эту несообразность (древо же, не бог) вселением беса. В рассказе фигурировал оживший Перун. Проплывая под мостом, он швырнул свою палицу, значит, по преданию, дошедшему до летописца, бог был изображен в истукане с палицей. К этому эпизоду информаторы летописца возводят традицию кулачных боев на Великом мосту, где ежегодно встречались обе «стороны» Новгорода. Вероятно, в этом сказывается смутное воспоминание либо о том, что на проводах Перуна толпе положено было делиться надвое и вступать в борьбу за него, либо о том, что на этих похоронах справлялась тризна с кулачным боем. Такие «стенные бои» (стенка на стенку) в позднейшей России практиковались обычно на Масленицу или на Троицу (Zelenin 1927: 352, Пропп 1963: 124), т. е. в те празднества, куда отошли из встречи летнего солнцеворота «скоромные» развлечения. Бились и в купальскую ночь. Об этом напоминает пословица: «На Ивана Купала кого побьют — пропало» (Даль 1955, II: 219; значение этой информации подсказано Велецкой 1978: 101, прим. 46). 5. ВОСКРЕШЕНИЕ ПЕРУНАПерун на жерновеТаким образом, мы приходим к необходимости подключить Перуна к серии умирающих (убиваемых) и воскресающих богов (см. Francfort 1958; Jacobsen 1976, Chapter 2. Dying gods of fertility: 23-73). Мангардт и Фрэзер определили, что целью умирания и воскрешения была магическая поддержка возрождения растительности. Такими умирающими и воскресающими богами урожая и ежегодного возрождения природы видели Озириса, Таммуза, Адониса, Аттиса. Характерной чертой всех этих культов было их отправление женщинами (Фрэзер 1986: 303-306), как это оказалось и в случае с Перуном. Но Беркит (Burkitt 1979: 99-105) серьезно оспорил, что во всех этих мифах целью была магия, направленная на вегетацию — боги возвращались на землю с другими целями. Но все это были не боги грома. Были, однако, и громовержцы с таким циклическим режимом, и, что любопытно, только в Азии, хотя бы Индра (Hopkins 1916). Как ни странно, в этом качестве Перун схож не со своими европейскими родственниками (Зевсом, Тором), а с малоазийским (хеттским), индийским, а также с западносемитским (финикийским) громовержцем Балу (Ваалом, Баал-Хаддадом), покровителем Угарита, вооруженным палицей и имевшим титул «князь» (Баал-Зебул, прототип Вельзевула христианской мифологии). Вот здесь поддержка вегетации отчетливее. Этот западносемитский громовержец, оттеснивший от верховенства над богами своего отца Ила, был приглашен богом смерти Муту на пир и там убит. Жена его Анат оплакивает мужа, затем с помощью богини солнца Шапаш находит его тело и погребает. После этого Анат убивает бога смерти Муту и, размолов его в муку, рассеивает по полю, отчего Балу воскресает. Муту тоже (на седьмой год), и все начинается сначала. Семь лет стоял и Киевский Перун над Днепром, другие семь лет — новгородский над Волховом. Семя для посева нет надобности размалывать в муку, и не собирается Анат возрождать врага своего мужа, так что и не семя это. Размалывание здесь безусловно имеет магический смысл. Оно направлено на врага Громовержца, то есть является тем действием, которое хотел бы, но не успел произвести сам Громовержец. В этой связи не лишена значения несомненная причастность славянского громовержца к молотьбе и мельнице. В литературе уже обращалось внимание на то, что в языке славян слова ' «молния» («молонья», «молодня») и «молоть», «молот», «мельница» («млын») — от одного корня, и от того же корня у германцев образовано имя собственное молота Тора — «Мьельнир» (Davidson 1965). В Белоруссии бытовало предание о том, что небесные духи гарцуки возят жернов, на котором восседает Перун с огненным луком в руке (Афанасьев 1865, I: 291). Есть и предание о чудесных жерновах, упавших с неба. В финском эпосе священная мельница Сампо связана с деяниями культурного героя. Эта мельница перемалывает все, но судя по эпическому описанию, реальный прообраз Сампо — просто большая зернотерка из двух камней (Рыбаков 1981: 257-259). Мельника, хозяина водяной мельницы, обычно на Руси считали колдуном (Токарев 1957: 32). Передавали, что на мельничном колесе катаются русалки (Афанасьев 1865, I: 291). Чтобы унять нечистую силу, при мельнице устраивали часовню с иконой — «шумиху», чтобы, как об этом говорили, «шумному богу молиться» (Успенский 1982: 118). Когда, опасаясь наводнения, водяному жертвовали коня, его опускали в прорубь с двумя жерновами на шее (Афанасьев 1868, И: 245). Еще Афанасьев подметил, что рудиментом связи мельницы с языческим божеством можно считать стойкое представление о Чертовой мельнице, а более древнее орудие размола, ступа, в русских сказках служит повозкой Бабы-Яги (Афанасьев 1865, I: 295). Но ступа являлась культовым предметом у угров и у индоариев: в ней толкли наркотическое растение для священного напитка сомы — того самого, которым опьянялся Индра. Возможно, что и кавказская привязка рассказа о водяной мельнице и о споре двух братьев из-за нее к образу Пиръона не случайна и унаследована от Перуна. Любопытно, что и в финском эпосе мельница Сампо гибнет в ходе спора двух братьев из-за нее. Причастность Перуна к молотьбе, вероятно, как-то связана с его причастностью к хлебу, так выразительно подчеркнутой в кавказских текстах. Бережное и пиетическое отношение к хлебу характерно для древних славян. «Хл1б святый» — говорили на Украине. Народная русская песня, записанная в начале XIX в. возглашает: А эту песню мы хлебу поем, слава! Хлебу поем, хлебу честь воздаем, слава! (Снегирев 1837, II: 70) Сказать про хлеб худое слово считалось великим грехом — Бог накажет неурожаем. Запрещалось сорить хлебом или катать из него шарики. Уронив хлеб, полагалось поднять его и поцеловать. Кто не брезгает хлебом любого вида — ест его и черствым и цвелым, тот не изведает нищеты, доживет до преклонного возраста и, что связано именно с причастностью Перуна, не будет бояться грома и не потонет в воде (Афанасьев 1869, III: 763; Сумцов 1885: 88). У белорусов Святой Илья жнет жито. «Святы Илля —старая жнея». Можно было бы считать, что все дело в дате Ильина дня — он приходился на время жатвы (20 июня стар, стиля). Но святых на время жатвы много, для каждого дня есть какой-нибудь святой, а то и несколько. Есть и дни специально помеченные в народных святках жатвенными терминами — Прокофий Жатвенник (8 июня), Евстигней Житник (5 августа), Успенье — дожинки (15 августа, Хлебный спас (16 августа). Кроме того, покровительство Ильи над хлебом не ограничивается жатвой, он обеспечивает урожай, способствует росту злаков. На вопрос Богородицы, где был, Илья отвечает: По межам ходзив, жито родзив, Жито, пшаницу, усякую пашницу. (Сумцов 1885: 116) О том, что Илья способствует росту злаков, поют уже на Новый год — на Св. Василия. Вот украинская «щедровка»: Шов Илья На Василья, В его пужечка — Житяночка. Куды ею махнеть, Там жито ростеть. (Сумцов 1885: 116) Рассказывая сказки, уважение к хлебу словаки, болгары, русские, немцы утверждают ссылкой именно на наказание от Ильи. Когда-то хлебный колос по всему стеблю шел, снизу доверху, Но какая-то женщина подтерла обмаравшееся дитя пучком колосьев (или куском хлеба). В наказание Св. Илья (или Бог) провел рукой по стеблю, обдирая зерна — и вовсе бы оставил растение без зерен, да собака взмолилась хоть на ее долю оставить. На том Илья и задержал руку. Вот почему колос теперь небольшой — только на самой вершине стебля (Афанасьев 1865, I: 434, 482; и др.). В словацкой песне на тот же сюжет сохранился предшественник Ильи в функции носителя возмездия — бог Паром (Перун): Бог Паром за облаками Видит это, преисполнен гнева. Внезапно он метнул молнией в ее чело, Тотчас с ребенком она окаменела. (Леже 1908: 52) Попечение громовержца над хлебом составляет в рамках индоевропейской мифологии специфически славянское явление, которое, несомненно, должно быть поставлено в связь с принадлежностью славянского громовержца к умерщвляемым и воскресающим богам, ибо все боги этого вида связаны с растительностью и, прежде всего, со злаками. В этом свете получают объяснение и те отмеченные В. Я. Проппом черты проводов-похорон антропоморфного персонажа, которые относятся к аграрной магии, к стимуляции плодородия земли — когда части растерзанного чучела разбрасываются по полю. Выше уже говорилось об отворачивании грозовых туч хлебной лопатой и т. п. На Украине хлебные крошки полагалось тщательно собирать, чтобы скормить домашней птице (Афанасьев 1869, III: 763). На великорусских братчинах оставшиеся после пира хлебные крохи бросали на воздух — чтобы нечистая сила не портила ни деревни, ни полей (Сумцов 1885: 127 со ссылкой на Терещенко V: 150). Мы уже видели, что эти братчины с закланием быка (Николыцина, Петровщина) были некогда посвящены громовержцу. Бросание крошек вверх есть не что иное как их жертвоприношение Перуну. Стар и младКавказский рассказ о Пиръоне, забравшемся на медное небо и подбирающем крошки, видимо, и рисует Перуна, принимающего эту жертву. В связи с этим любовь Пиръона к детям и старикам приобретает весьма специфический оттенок: их он, видимо, тоже любил в том смысле, что часто «изволи собе» — требовал к себе, как того самого юношу-варяга в 983 г. в Киеве. Примечательно, что только те травы, собранные в купальскую ночь, считались целительными, которые сорваны стариками или детьми (Иванов и Топоров 1970: 366). Это стар и млад, излюбленные Перуном. Русские сказки заполнены бесчисленными попытками разных сверхъестественных и чуждых существ съесть, заполонить, заполучить в жертву именно детей. В связи с этим такую популярность в России получили в XIX в. байки о тайных умащениях злобными евреями пасхальной мацы кровью христианских мальчиков — несмотря на очевидную еврейскую боязнь попадания любой крови (даже куриной) в пищу (она же перестает быть кошерной!). А. А. Велецкая (1978) собрала большой материал об отправлении стариков к богу у древних славян. Перун и сам считался стариком. В кавказской «легенде» подчеркнуто долголетие Перуна: он жил 500 лет. Это равносильно тому, что его представляли стариком. Действительно в «Беседе трех святителей» Перун именуется старцем: «два ангела громная есть: елленский старец Перун и Хоре жидовин» (своими этническими определениями автор «Беседы», видимо, отмечал греко-языческие аналогии культу Перуна и юго-восточные, степные связи образа Хорса). У балтов тоже Перкунаса представляли отцом семейства и иногда именовали «старым отцом» (латыш. Vecais Tevs) (Иванов и Топоров 19746: 149-150). У немцев Тора называли «старым» (Grimm 1835: 957). Белорусы представляли себе Перуна иногда обладателем золотой бороды (Древлянский 1846: 17; Афанасьев 1868, И: 488, 769-770), и если Владимир снабдил своего Перуна в 980 г. лишь золотыми усами, то он тем самым омолодил его и модернизировал, подладив к идеальному образу воина-руса. Афанасьев идентифицировал с Перуном того мифического Деда (в белорусских поверьях чернобородого), который опекает клады: при отрытии разражается буря с громом и молниями (Древлянский 1846: 10; Афанасьев 1868, II: 488), а потребный для обнаружения клада цветок папоротника, будто бы расцветающий в ночь на Ивана Купалу и в бурные рябиновые ночи, у хорватов прямо называется Перунов цвет (Афанасьев 1983: 237). По широко распространенному у восточных славян (особенно у белорусов) поверью, Перун (или заместивший его Илья, или Гром) пугает (белор. палохае — ср. всполохи огня), гоняет и убивает чертей, поражая их громом-молнией (перуном по-белорусски) (Иванов и Топоров 1970: 321-389). Репейник, «чертополох», видимо, причастный к этому делу, называют и «дедовником» (Афанасьев 1983: 243). Любопытно сопоставить век, отпущенный Перуну (500 лет), с длительностью царствований Гефеста — Сварога и Гелиоса-Дажьбога в Египте по летописным переработкам извлечений из перевода хроники Малалы. Эпоха Сварога продолжалась неопределенно долго (время от потопа покрыто тремя царствованиями, последнее из них — «Феоста»-Сварога), а Дажьбога — всего 7470 дней, т. е. два десятилетия и полгода (ПВЛ под 1114 г.; Рыбаков 1981: 318). Возрастная поляризация предпочтений Перуна (стар и млад), скорее всего, связана с тем, что это умирающий и воскресающий бог. Такой характер божества акцентирует внимание на смерти и рождении, а отсюда — на старости и детстве. Умирающий бог (а значит, и его воплощение) должен быть стар. Рождающийся бог (а значит, и его воплощение) должен быть юн. Почти все воплощения бога, рассмотренные до сих пор в данном исследовании, принадлежат к его ипостаси умирающего божества — соответственно с праздником, организованным вокруг проводов или похорон бога. Даже Ярило, фаллическая ипостась Перуна, изображался в основном в виде старика. Пожалуй, лишь в царевиче, растущем в бочке, можно видеть воплощение возродившегося бога. Но его рождение отдалено от самого праздника, во время праздника рождение еще только запланировано. Святки: от Бадняка к БожичуЕсли мы хотим более ощутимо ухватить комплекс представлений, образов и действий, связанный с ежегодным возрождением Перуна, мы должны, очевидно, обратиться к диаметрально противоположному моменту годичной шкалы. У кельтов такая оппозиция очерчена распределением праздничных возжиганий костров по полугодиям (Le Roux et Guyonvarc'h 1995; Широкова 2000: 189, 274, 278-279, 291-292). В русском народном календаре она подтверждена симметричным распределением праздников, обрядов и поверий, как это уловил В. И. Чичеров (1957: 16-21). На годичном циферблате восточнославянского народного календаря точно напротив купальского комплекса обрядов находится самый большой праздник этого календаря (с 24 декабря по 6 января), и это единственный праздник, который обозначен просто словом с исконным значением «праздник», «священные дни» — Святки (ср. белорусск. «свята», польск. swi^to 'праздник'). На середину Святок приходится Новый год, но в святцах это всего лишь день очередного святого, при том не самого видного — Василия Великого. В России ни в церковном, ни в гражданском календаре Новый год здесь не является исконным: православный церковный год начинается до сих пор 1 сенября, а народный начинался, как и у многих других народов, 1 марта. На 1 января начало гражданского Нового года перенесено Петром I. Рождество Христово (24 декабря ст. ст.), разумеется, праздник пришлый, но как раз не вовсе чуждый понятиям языческих святок, потому что сам он на востоке Римской империи во многом скопирован с языческого, а именно зороастрийского, праздника рождения солнечного бога Митры — «рождения нового солнца» в день зимнего солнцеворота. «Характерными чертами ритуала были священные омовения, причащение хлебом и вином, осенение себя неким символическим знаком (крестом?), следование семидневной неделе с посвящением каждого дня одному из небесных светил, наконец, празднество в честь Митры около времени зимнего солнцестояния, а именно 25 декабря {dies natalis Solis invicti — день рождения непобедимого Солнца) (Фролов 1988: 60-61)». Так что заимствование праздника Рождества налицо. Оттого он и приурочен к зимнему солнцевороту, а именно с него и начинаются Святки. «Ему возрастать, мне малиться», — гласила якобы формула Иоанна Крестителя. Возрастает солнце с зимнего солнцеворота — там и помещено рождество Христа, а где солнце малится, после летнего солнцеворота, — там помещено рождество Иоанна. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году. В полдень солнце находится в самой низкой точке эклиптики. С этого момента с каждым полднем оно начнет подниматься вверх и набирать силу. Оно возродилось к новому лету, хотя зима еще только началась. «Солнце на лето, зима на мороз». В таких условиях солнце нуждается в поддержке — так можно понять первичный смысл магии новогодних обрядов. Поскольку маршрутом солнца по небу, равно как его общением с землей, распоряжается Перун (его воля — открыть ли солнце или упрятать за тучами), то самое время ему вмешаться. Требуется его возвращение, возрождение, воскресение. Надо полагать, обряды должны были начинаться перед солнцеворотом (следы этого остались — Чичеров 1957: 166-169) и достигать апогея к этому дню. Однако перед Рождеством церковь поместила почти полуторамесячный «Филипповский» пост — наступает сразу после дня Св. Филиппа (14 ноября) и снимается только Рождеством. В самый день Рождества были запрещены какие-либо грубые увеселения и обряды, не относящиеся непосредственно к Богородице и Иисусу. В конце Святок оказалось Крещение (Богоявление), и от рождества до Крещения церковь старалась удержать внимание паствы на евангельской истории первых дней Христа. Сюда же пали и гражданские новогодние торжества. Далеко не все сохранилось в Святках от первоначальной языческой обрядности. Часть была совершенно раздавлена организованным христианским благочестием, часть преобразована на месте в соответствии с церковными потребностями и западными светскими обычаями, часть разъехалась в обе стороны. Разумеется, в Святочной обрядности накопилось много разных наслоений — христианских, языческих, мирских, новых западноевропейских. Наличие языческих обрядов выдают больше всего два обстоятельства: а) повсеместное убеждение, что в Святки происходит разгул нечистой силы, и б) насыщенность этого праздника эротическими и сугубо сексуальными отправлениями. Нечистая сила старше христианства, поскольку именно христианство объявило все языческие божества и обряды нечистыми (Толстой 1974/1995: 246; 1976/1995: 264-265; Власова 2001: 351). Нечистая сила просто сосредоточена на периоде Святок (Максимов 1903: 300-301; Власова 2001: 471-472). Сексуальную сторону Святок подчеркивает указ Киевской духовной консистории от 1719 г.: «Неисповедимые безчиния и мерзкие беззакония творять, ... разные делаются ексцесса, яко то блудение грехи, девства растления, беззаконное детей прижитие» (Чичеров 1957: 168). Нечто подобное имел в виду и старец Григорий из Вязьмы, когда в челобитной царю Алексею Михайловичу доносил: «Такоже и игрища разные и мерзкие бывают вначале от Рождества Христова и до Богоявления всенощные, на коих святых нарицают, и монастыри делают, и келаря, и старцов нарицают, там же и женок и девок много ходят, и тамо девицы девство диаволу отдают» (Соболевский 1890: 130; Каптерев 1913: 181). Среди языческих обрядов есть смысл выделить здесь только а) те, что выдают культ Перуна и б) те, которые специально посвящены воскресению бога. К первым можно отнести обряды заклания жертвенного быка или воспроизведение такого обряда ряжеными, возжигание костров, изгнание нечисти, купание в проруби (Иордань) — все это вполне аналогично таким же обрядам купальского комплекса и его производных, не говоря уж о том, что и в новогодний период проводились русалии в Болгарии и в Древней Руси — «в навечерие Рождества Христова», как сказано в «Стоглаве» (1861: 141). О новогодних русалиях писали Веселовский (1889: 261-286) и Велецкая (19686). Ко второму ряду (воскресительному) можно отнести игры с покойником и, возможно, подготовку (а также репетицию) свадеб, и, наконец, имитацию коитуса и рождения ребенка. Одно из типичных святочных увеселений, и притом наиболее яростно осуждаемое церковью, — ряженые (рис. 41-42). Старца Григория особенно возмущали самые кощунственные — те, что изображали монастырь и рядились келарем и старцами и даже святыми («святых нарицают»). Обычно же на Святки рядились животными — курицей, гусем, а чаще всего кобылой или быком (Чичеров 1957: 198-200). У быка как персонажа этого маскарада было одно важное отличие от всех других масок: его непременно убивали — голову быка заменял горшок с рогами, один из участников ударял по горшку поленом, горшок разлетался, и «бык» падал (Чичеров 1957: 200). Бык — животное, приносимое в жертву славянскому Громовержцу, но заклание на Святках только изображалось. Куда же девался сам бык? По-видимому, жертвоприношение должно было состояться перед солнцеворотом, чтобы успеть оказать нужное магическое воздействие, а перед Рождеством появился пост, да и солнцеворот из-за несовершенства Юлианова кадендаря («старого стиля») постепенно отодвигался от Рождества, уходя все дальше под пост (к XIX в. он приходился около дня Св. Спиридона, 12 декабря стар, ст., потому и названного в народе Спиридон Поворот).
Рис. 41. Святочные маски ряженых — находки из раскопок Новгорода. По книге Рыбакова (1987, рис. 117а)
Рис. 42. Ряженые в новогодние маски, Болгария 1946 г. По книге Рыбакова (1987, рис. 1176) Значит, в этой поре и надо искать пропавшего быка. А собственно, и искать не нужно: он есть. Это знаменитый «миколец» — обетный бык, закалаемый «Великому Миколе», Св. Николаю Чудотворцу. Николин день — 6 декабря, т. е. ровно за месяц до Крещенья, за 18 дней до Рождества, за неделю до нынешнего солнцеворота. Конечно, и этот день закрыт потом, так что постепенное усиление строгостей должно было согнать жертвоприношение и с этого дня. Так оно и получилось: «миколыцину», посвященную Св. Николаю, в начале XX в. уже справляют обычно в воскресенье перед Филипповым днем, в первой половине ноября. Справляют не каждый год, а в случае мора —тогда Миколе обещают новорожденного бычка. Быка затем откармливают три года, последний месяц — только хлебным зерном, собранным со всего села (до 60 пудов), и не пускают к коровам. Забивают за день до пира, на который собирается все село (Чичеров 1957: 77-78). К Николину дню жертвоприношение было приурочено потому, что Николай Чудотворец — это ближайший крупный православный святой перед Рождеством, и, вероятно, долгое время еще не весь филипповский пост соблюдался строго, по крайне мере вдали от основных религиозных центров («миколыцина» зафиксирована в костромских лесах). Б. А. Успенский (1978) убедительно показал, что в образе этого русского полубога Николы, (Миколы, Микулы) еще до прихода на Русь соединились фигуры византийского святого Николая Мирликийского и архангела Михаила. Исследователь считает, что Микола на Руси в основном сменил и заменил «скотьего бога» Волоса. Действительно, в образе Миколы есть некоторые черты, которые можно так истолковать (покровительство над скотинкой, монастырь в Волосове и т. п.). Однако сам же Успенский признал, что однозначных соответствий православных святых языческим богам не было. Один и тот же бог выступал под масками разных христианских святых, например, Перун — как Илья, Георгий, Андрей Первозванный, Пантелеймон, Борис-и-Глеб (Успенский 1982: 31); другой пример: Волос — как Власий, Василий, Флор и Лавр, Николай, Георгий-Юрий (там же, с. 127-134). А в одном и том же святом нередко проступают черты разных языческих богов (например, в Кузьме и Демьяне — огонь Сварожич, которому жертвовали кур, божественный кузнец и одновременно какая-то богиня, потому что к ним обращаются со словами «матушка Кузьма-Демьяна» — там же (там же, с. 155). В Николае немало и от Перуна. Он, несомненно, перенял некоторые функции Перуна, в частности его зимнее место в системе календарных праздников и его роль получателя жертв (быками). О Миколе украинские крестьяне говорили: «Святой Миколай богом буде, як бог умре». Русские также считали, что он «мог бы быть богом, но не захотел этой чести» (Чичеров 1957: 77). Таких слов ни о Волосе, ни о Велесе не засвидетельствовано. А вот о Перкуне литовцы говорили то же самое и схожими словами: «Кабы бога не было, тогда он (Перкун) был бы богом, но коль скоро бог есть и никогда не умрет, так и не приходится Перкуну быть богом...» (Balys 1957: 151, № 29). Во всяком случае в календарном празднике Николы Зимнего не заметно ничего от Волоса. В ночь на Рождество (с 24 на 25 декабря) южные славяне возжигали «новый огонь» — «живой», т. е. добытый трением. Чехи его называют «божьим огнем», русские — «Царь-огнем», сербы — ватрой (этот иранский термин некогда был распространен шире у славян, отсюды наша «ватрушка» — «испеченная на огне»). Этим огнем сербы, хорваты, болгары и македонцы зажигали бадняк — толстенную колоду в рост человека, чаще всего дубовую, вырубленную по особому ритуалу, накормленную и напоенную (маслом и вином), умащенную, одетую и крашенную, которая должна была гореть, не угасая, до Крещенья (в Югославии колоду рубили на части, а срок горения был сильно сокращен). Огонь должны были стеречь всю ночь, чтобы не угас — бдеть над ним. Поэтому, считается, что колода и называлась «бадняк» от «бъдети» (Ильинский 1921: 202-205; Десницкая 1983: 90-91; Толстой 19956, 1:127). Суффиксальное оформление на -ак свидетельствует о том, что это термин вторичный, производный от Бадн>и дан «сочельник». Топоров удачно сопоставляет это выражение с русским «будний день», «будни» и предполагает за русским первичное значение «канун праздника», от «сочельник». Топоров выдвинул очень детально разработанное сопоставление термина «бадняк» (серб. бадн>ак, болг. бъднак) с названием индоарийского «Змея Глубин» Ахи Будхньи (Ahi Budhnya) и греч. Пифона (Пибсоу) — змея, убитого Аполлоном. Это позволило исследователю истолковать бадняк как Змея, который был Противником Громовержца и сидел у корней мирового дерева (Топоров 1976). К сожалению, трудно принять эту заманчивую гипотезу. Во- первых, этому противоречит само обхождение с Бадняком: его приветствуют, ублажают и почитают. Во-вторых, индоарийский Ахи Будхнья не имеет столкновений с Индрой и очень смутно (явно вторично) сопоставлен с Вритрой, а греческий пифон (питон) убит не Зевсом. В-третьих, оба они (Ахи и Питон) не имеют никакой связи с корнями мирового древа — это германский змей Йормунганд расположен в соотнесении с корнями древа. В-четвертых, в гнезде слов, к которому принадлежит «бадняк», нет никаких обозначений змея. В-пятых, в самом названии Ahi Budhnya («Змей Глубин») второе слово (а именно оно дает основу для сопоставления) обозначает не змея, а глубины. В числе родственных ему в индоевропейских языках есть слово «дно» (нем. Boden, слав, дно <*bedno)f «низ» (др.-инд. budhnas, заимств. морд, pundas). Топоров первичным для всего гнезда слов счел именно *«(be)dno» 'низ', то есть по этому толкованию 'сочельник', 'канун праздника', это как бы 'под-праздник'. Сюда же Топоров подключает «бъдынъ» 'надгробное сооружение', 'столб'. Однако «дно» в значении «под-» нигде более не засвидетельствовано, а летописное выражение «деяти бъдынъ» говорит о том, что под бдыном разумелся скорее обряд, чем вещь (Десницкая 1983: 91). Так что вероятнее все-таки название праздника — от «бдения», «бдеть», т. е. 'проводить бессонную ночь', а по празднику назвали и колоду. Впрочем, если это и не так, и колода все же сохранила индоевропейское обозначение «пня», это все равно не очень приближает бадняк к змею: скорее пень можно было бы ассоциировать с самим мировым древом, чему, однако, противоречит его анимизация и антропоморфизация. Н. И. Толстой (1983; 1986/1995а) показал, что бадняк распространен не только у болгар и сербов, но и (под другим названием — просто «колода») у литовцев и украинцев (но у украинцев «Колодий» отъехал в масленицу). Обычно в «колодии» главным считают навязывание колодки на ногу холостякам, но это лишь один момент в ее использовании. На Черниговщине женщины праздновали Колодку всю масленую неделю. В понедельник считалось, что Колодка родилась, ее пеленали в холст, пили вино, поздравляли друг друга с ее рождением и расходились по домам, оставляя Колодку в корчме. Во вторник ее крестили, в среду это отмечали («покрестьбины»), в четверг она умирала, в пятницу ее хоронили, и только в воскресенье ее «волочили», т. е. привязывали к ноге парубкам и девушкам (Чубинский 1872: 78; Соколова 1979: 50; Агапкина 1996). Значит, колодке приписывали способность пройти жизненный цикл и поддерживали его своими обрядами — вероятно, как это Толстой и отмечает, ради магического овладения ее силой. Иными словами, колодка мыслилась сверхъестественным, но антропоморфным существом. Само Рождество, следующее за сочельником, называется у южных славян Божич или Божик, т. е. «сын бога», «божок». Толстой также отметил, что бадняк одевают как новорожденного мальчика. Это значение нередко усиливается эпитетом Млады с противопоставлением Старому Бадняку. Старость же Бадняка подчеркивается изображением бороды на колоде. Божий сын, конечно, ассоциируется сейчас с Христом, а все противопоставление — с проводами Старого года (в основе же — старого солнца) и встречей Нового года (в основе — молодого солнца). В обрядовых песнях при сожжении бадняка девушки от имени дерева пели, что оно (цитирую по Т. А. Колевой) «должно вырасти до неба, чтобы по нему на землю спустился молодой бог и принес изобилие, здоровье и радость в каждый дом» (Колева 1973: 271). Несмотря на явную ассоциацию (в этом моменте) с мировым древом, Колева, конечно, права, когда полагает, что «отношение к рождественскому полену как к живому существу, большое его почитание всеми членами семьи, его воспевание в обрядовых песнях говорят о том, что оно олицетворяет какое-то древнее языческое божество или же является атрибутом такого божества». Толстой показал это очень убедительно. Бадняка вносят в дом толстым концом («бородой») вперед. В Сербии хозяин дома целует Бадняка, кое-где Бадняку также кланяются, кадят перед ним, «кормят» (Толстой 1995: 129). Словом, обходятся с ним как с богом. Какое это божество? Пока здесь проскользнул только один намек на это — преимущественное изготовление бадняка из дуба. Возможно, не случайно восточные славяне с такой готовностью перекрестили Св. Меланию, чей день приходится на 31 декабря, в Маланью, Молонью, т. е. молнию (Успенский 1982: 44). Она пришлась кстати, хотя и не впору. Но сербский и македонский песенный припев «Сварожичу мой Божичу» говорит скорее о привязке этого праздника к верховному богу сербов Дайбогу (если только и Перун не считался сыном Сварога). В Болгарии, однако, Перун больше отражен в топонимике и этнографии и, возможно, он был главным богом, богом Бадняка. Привязывание парней, запоздавших с женитьбой, и девок, засидевшихся в невестах, к колоде, которая символизировала бога, связанного с плодородием (Купало и Ярило, свадьба вокруг дуба и т. п.), логично и понятно: контакт с ним должен был усилить бракосочетательную способность загулявшихся холостяков и перезревших невест, подвинуть их к свадьбам. Осудительный и позорящий смысл этого обряда вторичен и возник как следствие деревенского конформизма и презрения к лядащим и неказистым. Первичным был магический и благожелательный. Это происхождение обряда уловила Б. П. Кербелите (1996: 342). Возжжение священного огня с более ясным языческим осмыслением, возможно, отпочковавшееся от рождественского, отодвинулось на Сретенье, к началу февраля. Праздник Сретенья, хоть и привязан к христианскому сюжету и должен падать на 2 февраля, размыт и продолжается необычный для христианских праздников срок: с 1 по 9 февраля, 9 дней (Ладинский 1873: 39), а это число, характерное для Перуна. В ранней форме этот праздник засвидетельствован у венгров: здесь в средние века повсюду гасили огни и зажигали их вновь от освященной свечи (Календарные 1973: 191), т. е. в христианизированной форме возжигался «новый огонь». У славян день возжжения свечи (собственно Сретенье, 2 февраля) называется Громницы, а свеча — громничная. Ее считали охранительной (от грозы) и берегли весь год для важных оказий. По ней весь февраль у западных славян называется свечин или громечник. Название, конечно, дано по богу или по дубу (сербск. грм), а не по природному явлению: никакого грома ни в феврале, ни в рождественское время не бывает. Сретенье могло перетянуть эти обряды своей сюжетной связью с младенцем Христом — сыном Божьим. Сретенье осмыслено как встреча сына Божия: Мария на 40-й день после рождества, очистившись, вносит сына в храм. Это его первое явление народу — аналог рождению. Возможно, однако, что Громницы передвинулись к Сретенью с лета вместе с Масленицей, или с весны (первый гром): тогда они бы могли получить название и от грома как природного явления. Но тогда почему их притянуло Сретенье, ближе к Святкам? Во всяком случае соседство со Святками, вероятно, не случайно; родство ощущается. Югославы вносили в дом столько бадняков, сколько мужчин в семье. Поляки зажигали на Громницы столько свечей, сколько в семье членов (Афанасьев 1869, III: 200). Громницы — это как бы Малые святки, бледный слепок со Святок. Итак, в обе стороны от Святок выброшены сугубо языческие обряды, несущие на себе печать культа Громовержца. Часть такой обрядности осталась и в самих Святках (купанье в проруби и обливание водой оставляю здесь без рассмотрения ввиду того, что в этом обряде трудно отделить евангельские стимулы от языческих). Возможно, однако, что и Святки пополнились обрядами, ранее отправлявшимися в другое время. Приглядимся к Перуновым дубам. Подводя итог исследованиям по этим дубам, Забашта и Пошивайло (1992) отмечают, что датировка находок (радиоуглеродная и дендрохронологическая) укладывается в пределах VIII—X вв., челюсти принадлежали самкам молодой свиньи в возрасте около 2,5 лет, а в дерево они вколочены осенью. Эти данные противоречат предположению Рыбакова (1987: 210-212), который сопоставлял эти находки с «кесаретским поросенком» и дубовым «Бадняком», т. е. со Святками. Однако кое-какая связь все же возможна, поскольку не исключена передвижка некоторых языческих обрядов на Святки со времени, закрытого христианскими постами — Успенским (в первой половине августа) или скорее Филипповским (Рождественским), который тянулся от Филиппова дня (14 октября ст. ст.) до самого Рождества. Игры с умруномПерейдем к тем обрядам, которые позволяют установить не только сходство с купальскими, но и коренное отличие от них и тем самым выводят к определению сути святочной обрядности, ее основы. Я имею здесь в виду знаменитые похоронные (покойницкие) игры: «в покойника», «в мертвеца», «в умруна», «в умрана», — с их яркой эротичностью. В контексте происхождения народного театра к этим играм специально обращался В. Е. Гусев (1974). Он писал: «Загадочными остаются русские святочные игры в покойника («Умрун», «Умран» и т. п.). Загадочность усиливается тем, что игры эти происходили не только на Святках, но бывали и на посиделках в начале поста, на масленицу, в разные фазы свадебных торжеств и т. п., хотя наиболее развернутыми они были все-таки на Святках. То есть «визиты» мертвеца приурочены к важным календарным праздникам и особо значимым ритуальным торжествам, а из праздников Святки считались наиболее удобными для разгула потусторонней («нечистой» для церкви) силы. Тут-то и происходило «свидание с предком». Однако именно в дни, специально посвященные общению с родными покойниками — Велик Четверг, на Радуницу (Навий День, «Пасху мертвецов»), в Родительскую Субботу — таких игр не было. Непонятна и крайняя сексуальность, наполняющая эти игры, их связь с мотивами женитьбы и брака. Похожие игры у западных украинцев и карпатских горцев, у хорватов, поляков и чехов, у неславянских народов Балканского полуострова и Подунавья (румын, венгров) совершаются без привязки к Святкам — при настоящих похоронах, в присутствии и с участием настоящего покойника. Игры эти в Закарпатье называются «cBI4IHe» («свячение») — термин, очень близкий к русскому «Святки». Покойника при «священии» тянут за ноги, приглашая подняться, или засовывают в нос соломинку и щекочут, чтобы заставить рассмеяться. «Кличут, шобы встав да бавився з himi». Его игриво дергают за волосы и просят догадаться, кто это сделал. По одному сообщению, «к руке покойного привязывают веревку, и, пока читается Псалтирь, молодые парни дергают за нее. Умерший шевелит рукой. Тогда все пугаются». Иногда покойника сажают на скамью и веселятся прй нем, играя в карты и попивая пивцо, а ему привязывают веревку к ноге или руке и дергают за нее, крича при этом: «Он встает, он встает!» (Богатырев 1926/1996). К. Грушевская (1924: 107-108) видит в этих манипуляциях с трупом обряд «бужения покойника». Имитируя оживление покойника, люди старались предотвратить заражение живых смертью, исходя из принципов «симпатической», «имитативной» или «симильной» магии (от подобного). Здесь магическое значение таких действий нетрудно понять: преодоление смерти, ослабление смерти, чтобы она не взяла новые жертвы. Термин «священие», «Святки», в этих случаях, видимо, приоткрывает древний смысл слова «свят-», реконструируемый лингвистами: «жизненная сила». «Священие» — это придание мертвому жизненной силы, оживление его. В ряде случаев настоящего покойника на время упрятывали в чулан и все действо производили над живым человеком, изображавшим покойника. А когда обряд оторван от похорон и приурочен к календарному празднику, в частности к Святкам, то в таком действе настоящего покойника и вовсе нет. Кто-то его изображает (лежит на скамье и т. п.), но в отличие от настоящего покойника, этот более ощутимо воскресает: вскакивает и пляшет. Пословицы это отображают: «Чудак покойник, умер во вторник; стали гроб тесать, а он вскочил да и ну плясать». Или: «...в среду хоронить, а он в окошко глядит». Или: «Пришел поп кадить, а он в окошко глядит» (Кузеля 1914: 208-209; Велецкая 1976; 1978: 112-113). Часто вместо имитации покойника ряженые изображают сексуальные действия. Одно такое ряжение — трансвестизм, — наблюдавшееся в селе Жабю-Магури Косовского уезда, — описывает по-украински Гнатюк (1912: 295): «Того обьирайи си двох, один за дпда, а другий за бабу (т. е. переодеваются один дедом, другой бабой); таю льичш йик бисти вшили, йике то льиканьи пудке! Тай идут co6i помежи люди, а друп мужчши запнают (загибают) бабу, ади руками межи ноги шульиют, а тот усе дщо бабу по лицу: — А видишь, курво, шляг би тьи трафиу (удар бы тебя поразил), ти майиш других, ти co6i любасиу шукайиш (v тебя другие, ты себе любовников ищешь)». Набйит, набйит, а витак пирвирне сирид хором (набьет, набьет, а вот так перевернет среди помещения), заголи и й...е». Магическое значение сексуальной активности противоположно умиранию, смерти, и должно ослабить ее опасное действие, ее, так сказать, заразность. Такое значение эротических и сексуальных обрядов, обрядовой разнузданности, смеха и обрядового веселья показаны на многих примерах рядом исследователей (Пропп 1963; Понырко 1984). Но в святочных и масленичных обрядах реального покойника нет, есть только ряженый в покойника. В. И. Чичеров, обобщивший эти материалы, полагал, что «тема смерти» представляет собой как бы отклик «на зимнее умирание солнца и всей природы», являясь параллелью похоронам зимы, которые с продвижением славян на север отошли от этого времени к масленице (Чичеров 1957: 202). Привлекал он для объяснения и культ предков (для стимуляции природы обращались к помощи «родителей») (там же, 202). В. Я. Пропп ставил святочные покойницкие игры в один ряд с похоронами Костромы, Ярилы, Морены и проч. и трактовал их в одном и том же ключе — в плане магической стимуляции плодородия почвы телом божества. Но какое плодородие зимой? Пропп (1963: 94) считал: «Такая форма фиктивных похорон может быть признак более поздний, перенесенный с весны на новый год». Гусев подмечает другое несоответствие: в тех праздниках погребались куклы, а здесь покойника изображает живой человек. Поэтому Гусев возвращается к объяснению святочного действа культом предков. В подтверждение он приводит наблюдение С. В. Максимова: парни, внесшие в избу мнимого покойника, спрашивают хозяина: «На вашей могиле покойника нашли — не ваш ли прадедка?» (запись в Вологодчине 1899 г.). Но игровой вопрос (повод для внесения покойника) — еще не утверждение. Отстаивая роль культа предков в происхождении святочного действа, Гусев усматривает в широко распространенных погребальных играх (при настоящем покойнике, упрятанном в чулан) переходное звено этой линии развития. Но возможно ведь, что они лишь отражение святочного действа или параллельное развитие. Наконец, Морозов и Слепцова (1996: 252), наиболее широко обобщившие эти материалы, предположили, что святочные игры и родственные им действа являются пережиточными формами ритуального брака. Но это не известный во многих религиях «священный брак» божеств, а нечто иное. «В большинстве случаев кульминационной точкой всей святочной мистерии была сценка, где в качестве главного действующего лица выступал «покойник». Естественно предположить, что именно он и являлся тем «женихом», вступление в символический брак с которым составляло главное содержание всего святочного празднично-обрядового действа». А «оживающий мертвец» — это «дух предка», вызываемый с того света для помощи живым и регулярно возвращающийся «в определенные календарные или особо значимые ритуальные моменты». Но вступление с предком в ритуальный брак — это было бы кровосмешение, абсолютно запретное по нормам первобытного общества! Мне кажется, все пять исследователей ошибались. У святочных игр «в умруна», или как бы их ни называть, есть одно чрезвычайно важное отличие от всех упомянутых «похорон»: «умруна», как правило, не умерщвляют и не погребают (не топят, не сжигают и т. п.), не отправляют или не возвращают на тот свет. Наоборот, он воскресает. Идея, которая проглядывала и в реальных похоронах — там это имитировалось. Суть «игр с умруном» состоит не в приобщении к смерти, а наоборот — в оживлении. Именно с этим связано то, что покойника в святочной обрядности изображает не кукла (чучело, идол), а живой человек — ряженый. Но там, в реальных похоронах, средствами имитативной и т. п. магии изображали желанное воскрешение реального умершего, как бы преодолевая смерть, а кого воскрешают здесь? Иногда мужчина, представляющий покойника, надевал и маску, а это средство более радикального преображения — то ли в покойника, то ли в кого-то еще, более далекого от живого человека. Вот описание из Костромской губернии: «Мужчина одевает рубашку белую, штаны белые, онучи белые, лапти новые с веревками, перевитыми как у живого (обратите внимание — как у живого! — II. К.), поясок домотканый; лицо покрывает платком или одевают личину (маску), деревянную долблену (или из бересты), страшную, неприглядную. «Мертвеца» кладут или на салазки, которые несут несколько человек с воем и плачем провожающих родителей, братьев и сестер. В избе мнимые родственники покойника зовут девок или просто волокут прикладываться к покойнику» (Завойко 1917: 24). А вот аналогичный обряд, описанный в Вологодской губернии. Ряженый покойником одет во все белое, лицо в овсяной муке, в рот вставлены длинные зубы из брюквы (для изображения покойника такие зубы вроде бы не нужны). Его кладут в гроб или на скамейку и привязывают накрепко веревками, «чтобы не убежал» (обратите внимание, какая резвость ожидается от покойника!). Кстати, убежать ряженый мог в самом деле: нередко он шел на игру крайне неохотно, действо представлялось очень серьезным, боялись его не только девки (эти плакали всерьез), но и парни. Ряженого выбирали по жребию, а отпевали (в отличие от Костромы, Масленицы и т. п.) тоже со всей серьезностью, хотя и озорно — шутовство должно было еще и снять этот страх. «Покойника вносят в избу на посиделки четыре человека, сзади идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадилом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся горячие уголья, мох и сухой куриный помет. Рядом с попом выступает дьячок в кафтане и платочке, с косицей позади, потом плакальщица в темном сарафане и платочке, и, наконец, толпа провожающих покойника родственников, между которыми обязательно имеется мужчина в женском платье с корзиной шанег или опекишей для поминовения усопшего. Гроб с покойником ставят среди избы и начинается кощунственное отпевание, состоящее из самой отборной, что называется острожной, брани, которая прерывается только всхлипыванием плакальщицы да каждением «попа». По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый брюквенными зубами» (Максимов 1903: 300-301). От «попа» в таких случаях не отстают и плакальщицы: Ни доски бы тебе, ни гробу, Да мать тебе ебу. (Морозов и Слепцова 1996: 259) В этой игре парни «намеренно вводят скабрезный элемент, приводя в беспорядок туалет покойника». Они поясняют: «Хоша ему самому стыдно —да ведь он привязан, ничего не поделает». Эротизм ситуации подчеркивается демонстративно расстегнутой ширинкой или прорехами в самом неподходящем месте. Во многих случаях «покойник», покрытый покрывалом, изначально положен голым. Его «приносили голого и ставили в сутки, чтобы глядел вдоль по полу». Особо отмечается обнаженность половых органов. Мнимый покойник «на скамейке лежит, инструмент-то голой». Или: «Задница и перед голые — остальное закрыто». В деревне Климовская «как отпоют, открывали крышку гроба, а там мертвый без штанов, лицо закрыто тряпицей. Девки кто смеется, кто плюется». По рассказам из других мест, его «принесут, откроют, а он голый. Девки заивкают (завизжат). Мы его звали «миленком». Когда он голый плясать пойдет, то говорит: «Не видали ли медведя с колоколом?» Колоколом называли то, что между ног находится». Таким образом, «покойник» плясал в чем мать родила (Морозов и Слепцова 1996: 254, 266). В обоих случаях, как видим, непременно тащат девок — «прикладываться к покойнику», «целовать его». В чем смысл целования «покойника», у которого туалет «в беспорядке», увидим дальше. Пока отметим лишь, что «покойника» уносят «хоронить», и все заканчивается поминками, точнее просто пиром и разгулом, в котором «покойник» участвует наравне со всеми. Он не сожжен, не утоплен, не сплавлен, не похоронен, и это обстоятельство, не акцентированное исследователями и утратившее важность уже для самих участников, представляется мне ключевым. В Святки же разыгрывалась и комедия «Маврух» (на мотив «Мальбрук в поход собрался»), где умершего Мавруха вносят на скамье и отпевают, но первые строки текста вот как излагают суть: Чудак-покойник, Умер во вторник, Пришли хоронить — Он из окошка глядит. (Ончуков 1911: 135) Эти строки в разных вариантах ходят по России в качестве загадки (отгадка: хлебное зерно, или: яровое и озимь). В Белоруссии частый сюжет ряжения — дед с козой. Поют песню про козу. Под слова песни «ой ударил козыньку» кто-либо из участников ударяет козу по рогам (отсюда выражение «дать по рогам»), и коза падает, а когда поющие дойдут до слов «здорова устала», коза встает и начинает плясать. Пропп (1963: 112) отметил это «внезапное умирание и воскресение козы», однако добавил: «но здесь дело все же не в этом». Думаю, что все-таки прежде всего именно в этом. Кстати, козел у германцев — животное Тора, а литовский Перкун иногда ездит на козлах (Иванов и Топоров 19746: 149). Очень распространена была игра «в кузнеца». Полуголый парень, в одних портках, исполнявший роль кузнеца, объявлял, что будет «старых на молодых переделывать». Ряженый под старика уходил под полог, изображавший наковальню, сбрасывал там маску старика и выходил оттуда подростком. Интерес игры состоял «в том, чтобы при каждом ударе у кузнеца сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным» (Максимов 1903: 299). Кузнечные мехи изображал человек и вовсе голый, но с закрытым лицом, лежавший навзничь на скамье. Кузнец взял его за ноги «и начал поднимать и опускать их одну за другой: ноги представляли кузнечные меха...» (Чичеров 1957: 211, Пропп 1963: 130; Морозов и Слепцова 1996: 294). Переделав всех старых на молодых, кузнец принялся выполнять заказы девок, а те должны были расплачиваться поцелуями. Но воскрешение равнозначно рождению нового человека (молодого Божича?), а для рождения нужно зачатие. Дед с Козой — не единственное использование козы как символа похоти и плодородия в обрядности. Танцы — другой вариант той же народной прото-драмы, которая проявлялась в ряженых. В. Н. Всеволодский- Гернгросс в конце 20-х гг. XX в. заснял на кинопленку и кратко описал на Русском Севере, в Мезени, русский эротический танец «Козел». «Заключается он в воспроизведении русским па под гармонь очень недвусмысленного ухаживания парня за девкой, ограничивающегося грубым и довольно любовно и разнообразно разработанным воспроизведением коитуса. Это приводит нас к мысли о том, что и голубец и русский (в его мезенской редакции) представляют собой не более как облагороженную, сокращенную редакцию танца типа «Козла» (Всеволодский-Гернгросс 1928: 246). Камер-юнкер герцога голштинского Ф. В. Берхгольц, живший некоторое время при Петре I в России, описал в своем дневнике (1722) пляску типа «голубец», которая также была весьма эротичной (Толстой 1992/95: 229). Герцог со своей свитой, в которой в качестве гоф-юнкера был и Берхголбц, посетил полотняную фабрику купца Тамсена, где его угостили народными танцами. «...две девушки из самых младших, по приказанию Тамсена, должны были танцовать, прыгать и делать разныя фигуры. Между прочим он заставил их проплясать одну употребительную у здешних крестьян свадебную пляску, которая очень замысловата, но не отличается грацией по причине непристойности движений». Одна из девушек должна была в танце исполнять роль парня. «Сперва пляшут оба, следуя один за другим и делая друг другу разные знаки лицом, головой, всем корпусом и руками; потом девушка жестами делает объяснение в любви парню, который одна- кожъ не трогается этим, напротив, старается всячески избегать ея до тех пор, пока она наконец утомляется и перестает; тогда парень, с своей стороны, начинает ухаживать за девушкою и с большим трудом заставляет ее принять от него, в знак любви, носовой платок; после чего она во всю длину ложится на спину и закрывает себе лицо этим платком. Парень пляшет еще несколько времени вокруг лежащей, с разными смешными ужимками, прикидываясь очень влюбленным; то он как будто хочет поцеловать ее, то, казалось, даже приподнять ей юбку, — и все это среди пляски, не говоря ни слова. Но так как девушка, представлявшая парня, из стыда не хотела докончить пляску, то Тамсен велел доплясать ее одному из своих мальчиков, лет 9ти или Юти, который тотчас же очень охотно согласился на это. Проплясав, как и девушка, раза два вокруг лежавшей на полу, он вдруг вспрыгнул на нее и тем довершил пляску...» С этими представлениями и танцами сопрягались и старания переженить (в шутку, конечно) всех неженатых девок и парней, парами (цель та же, что в «Колодии»). Разыгрывались целые серии пародийных свадеб, с парнями, исполнявшими роли попа и дьячка. При этом «дьячок» кропил «новобрачных» веником, а «поп» пел пародийные молебны, состоявшие из отборной брани: Алилуйя, алилуй, Повели девку на хуй, на хуй, на хуй! (2 раза) Алилуйя, алилуй, Господи помилуй! С законным браком! Итак, целый комплекс обрядов, направленных на воскрешение и омоложение или рождение. Поэтому мне представляется, что права С. И. Дмитриева (1988), которая увидела в святочных ряженых связь с мистериями умирающего и воскресающего божества. Это вполне соответствует выявленному южнославянской обрядностью переходу от Старого Бадняка к Младу Божичу. Однако если в том противопоставлении содержался навеянный Евангелием намек (только намек) на смену отца сыном, то в восточнославянских материалах такого смысла нет. Нет евангельского налета, может быть, именно потому, что здесь эта обрядность утратила прямую направленность на божество, раздробилась, разрознилась, расслоилась на вариации. Зато она сохранила первоначальную суть — воскрешение и омоложение божества, и если собрать разрозненные обряды и направить их на одного персонажа, то из всего представленного выше вытекает, что этим персонажем должен быть бог погоды и плодородия громовержец Перун. Рассматривая его летние проводы, мы могли констатировать, что он уходил стариком (это было особенно очевидно в «похоронах Ярилы»), причем уходил в итифаллическом облике (это видно и в «похоронах Ярилы», и в «похоронах Германа» или «Калояна»). Естественно, и появиться с того света он должен тем же итифаллическим стариком. Характерно, что на роль «покойника» обычно подбирались пожилые, бывалые люди. «Пожилые мужики это, так им не стыдно, не совестно» (Морозов и Слепцова 1996: 252). Итак бог предстает стариком, и его надо «перековать на молодого». Вполне возможно, что здесь божественный кузнец, изображаемый ряженым, снова приходит на помощь. Но в чем средство воскрешения? Когда этот бог погоды и плодородия умирал, его оплакивали в основном женщины или девушки. Мы уже успели заметить, что к святочному «умруну» волокли прикладываться для поцелуев именно «девок». Волокли и «заставляли целовать, что подставят». Что же подставляли? В Закарпатье на «CBI4IHK)» при игре «деда» и «бабы» девушки обязаны были целовать молодых людей, а тех, которые отказывались, заставляли поцеловать у «деда» большой соломенный фаллос (Богатырев 1996: 496). В России целовали части тела «умруна». В одном сообщении сказано: голую задницу. «Мама рассказывала, что носили «покойника», голого, и девок тащили его целовать. Задницей кверху положат и несут на носилках (весь закрыт, только задница открыта): «Поцелуй родителя!» А девки на пол свалятся и держатся друг за друга, не идут целовать!» (д. Согорки). Тут явно уже разрушение обряда: девушки осмеливаются сопротивляться неприличию. В других деревнях иной вариант разрушения — подставляют не задницу, но вместо поцелуев откусывание ниток: мнимого покойника «приносили белово всево. Он одетой, а это место вот открыто. На член-от ... навьют ниток и кричат: «Шелк, шелк мерить!» Шелк на «покойнике» мерили. Девкам скажут: «Прощайтесь! Ниточки откусывайте!» ... Ты вот и отмеривай да откусывай у самово кончика. Вот шелк мерить и начнут этак-то. Я вот не боялась — чево тутока. Подумаешь, ниче не пристанет откусить, дак. Меня не хлестали. А другие упрямяцця, так ну-ко ремнем-то эдак-то робята-ти и жарят, пока не откусишь нитку». Или: «Мужика положат на лавке — штаны спехнены. К шишке привяжут-от нитоцьку портяну, от стольке может [чуть-чуть]. Дак от девки приходите и откусывайте от — «шовк привезен» дак. От накланяюцце и откусывают». А вот более сохранившийся обряд — из деревни Новая Слуда: мнимый покойник «на скамейке лежит, инструмент-от голой. Девку подтащат: «Целуй в лоб и инструмент!» Не поцелуешь — «коники» [ряженные «конем»] ременницей нахлещут» (Морозов и Слепцова 1996: 266-267). Общая разнузданность святочных игр, их сугубая эротичность, очевидная даже в приведенных описаниях начала XX в. (а там ведь оговорено, что «мы должны были опустить наиболее циничные пассажи» — Максимов 1903: 310), заставляет подозревать, что поцелуями дело не ограничивалось даже в недавнее время, не говоря уже о языческом прошлом. Видимо, старец (иконописец) Григорий из Вязьмы, писавший царю Алексею Михайловичу, что в святочных игрищах девицы «девство дьяволу отдают», опирался на некую реальность. Аква Вита и «доение коровушки»Думается, что мы вправе подключить к рассмотрению «покойницких игр» одно наблюдение, которое в данной связи еще никем не привлекалось. Оно сделано в 1889 г. непрофессиональным этнографом, и он не понял, что имел дело с вариантом старинной обрядности — принял все за изобретение спившихся подонков. Поскольку для той среды наблюдатель не был посторонним человеком, была гарантирована ненарушенность наблюдаемого процесса, т. е. присутствие постороннего наблюдателя не воздействовало — правда, не до конца: в конце наблюдатель все-таки вмешался и пресек обряд. Этот наблюдатель — Максим Горький. В рассказе «Сторож», примыкающем к повести «Мои университеты», описаны события поздней осени 1889 г. Дело происходило в Москве в грязной ночлежке около Сухаревой башни, где гнездилась всякая шваль — пропойцы, нищие, в том числе несколько «бывших» (химик Маслов, пианист), но опустившихся. Один из них, бывший адвокат Гладков, организовал «орден преподобной Аквавиты» (Аква Вита — с лат. «живая вода», т. е. водка). Утром Гладков сказал недавнему сторожу (и будущему писателю) Алексею Пешкову: — Сейчас мы будем посвящать в кавалеры «Аквавиты» новообращенного, вот —этого! «Он указал мне молодого кудрявого человека в одной рубахе без штанов; человек этот был давно и досиня пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы — жженой пробкой». Глава «ордена» объяснил, что это купеческий сын, «студиозус», пятую неделю пьет и все пропил. Явилась жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и принесла свиток рогож, сказав: «Облачение — готово». Пятеро людей засуетились. «Пианист» Брагин старательно раздувал угли в кастрюле. «Выдвинули нары на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку (поповскую шапку), а Гладков облачился дьяконом». Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки, положили на нары посреди подвала. «Адвокат» размахивал кастрюлей, окуривая лежащего. Из нее поднимался сизый дым тлеющих листьев веника. Вонме-ем! — возгласил одетый в рогожи Гладков. «Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато, нараспев заговорил: — Братие! Возопиим ко диаволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и распутстве вавилонстем болярина Иакова, да приимет его сатана с честию и радостию и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов! Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.... Эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов поистине дьяволову фантазию, безграничную извращенность. ... Пять глоток извергали на человека поток ядовитой грязи, они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, а — служили, и ясно было: служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви. Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию». Тот пытался соскочить, но хористы прижимали его к доскам. Молодой рассказчик Пешков (будущий Горький) был в ужасе. До него не доходило, что в этой «невыразимо мерзкой» церемонии есть элементы народного действа, имеющего этнографический интерес, что вся эта затейливая брань обязательна в некоторых народных праздничных обрядах. Понятно, как это воспринимал юноша Пешков, который даже в более зрелом возрасте и джаз-то не ценил и не принимал, слыша в этой «музыке толстых» только визжание и грохот. Этот буревестник революции воспринимал только строго классические формы. А тут такое... Дальше церемония развивалась еще ужаснее. Могила! — крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей. Хор во всю силу грянул: Гряди, гряди, Гроб, гроб... Вошла та самая баба с перебитым носом, совершенно голая. Она шла приплясывая. Маслов и Гладков встретили ее непристойными жестами. «Баба, взвизгивая от радости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым... Под новый, почти плясовой, а все-таки мрачный мотив отвратительной песенки, баба, наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его». Тут Пешков бросился на участников «и стал бить их по мордам». Очнулся к вечеру под насыпью железнодорожного пути сильно избитым (Горький 1923/1973: 161-165). Примечательно, как истово и серьезно участники действа подходили к его исполнению. Существенно также, что действо шло гладко: было многократно обкатано. Это была привычная церемония, в большой мере ритуал, обряд. Конечно, обряд, который довелось видеть молодому Горькому, был лишен религиозного смысла, а разнузданность была усугублена кабацкой обстановкой и мерзостью участников. Верно, что заводилами были не крестьяне, а «бывшие» интеллигенты — адвокат, пианист, химик, — но они явно пообтерлись «на дне» среди «сухаревцев» и прониклись знанием народного опыта — насмешливым скороморошьим отношением к церкви, простонародными развлечениями, среди которых вакханалии ряженых занимали видное место. По программе действо вряд ли далеко уклонилось от древнего святочного обряда. Приведу прямую цитату из статьи Морозова и Слепцовой (1996: 292): «В некоторых деревнях устраивалось так называемое «доение коровушки». Скажем, в д. Холкин Конец в избу вводили на четвереньках голого мужика, измазанного сажей, — «корову»..., и поводырь водил его на ремешке, привязанном за шею, по избе. Затем кто-нибудь кричал: «Надо корову подоить!» — и один из ряженых пытался «доить» «корову» («подергать за титьку»), а та лягала его «копытом», в чем, собственно и состоял интерес сцены. В д. Росляково парни пытались заставить «доить корову» девушек, поэтому сценка завершалась шутливой потасовкой». В приводившемся выше представлении «дед и баба» из Галиции (село Жабю-Магуры) изображением коитуса «деда» и «бабы» дело не кончалось. Дед «йик устане, бирет з межи Hir 6a6i й....а (сперму) и дает пахати (нюхать) чьильиди i мужчшам, ади куражит (отпуская при этом шутки)». В том, что все это остатки древнего обряда, сутью которого было добывание спермы для какой-то цели, нетрудно убедиться, обратившись к обличениям церковников. Одно из них — это «Слово о том како первое погани суще языци кланялися идолом», основанное на переводе поучения Григория Богослова и относимое Рыбаковым к сочинениям игумена Даниила (начало XII в.). Анализируя вставки русского автора в переработанный им перевод, Е. В. Аничков (1916: 260) отметил, что там характеризуется брачное пиршество с игрой и пляской и «упоминается еще фаллический обряд, а в связи с ним грязнейшая подробность, которой не хочется верить». Не знаю, почему Аничков говорит об одной подробности. Таких подробностей, собственно, две. Одна отнесена к славянам вообще, другая — только к болгарам. Верить все же придется, потому что древнерусские церковники могли, конечно, клеветать на далеких болгар-магометан, приписывая им (в летописном рассказе под 986 г. об испытании вер) гнусные обряды — подмывание задницы и полоскание рта одной и той же водой («омывают оходы» и т. д.), а также и нечто худшее, но возводить напраслину на своих же слушателей и их сородичей было бы совершенно бесполезно и просто глупо. Кстати, откуда взято само инкриминируемое болгарам-магометанам безобразие? Есть ли это просто разнузданное воображение монахов-клеветников или они подсмотрели это безобразие где-то поблизости и перенесли на иностранцев, да еще чужой веры? Смешанное подмывание — это просто намеренная путаница. Но по летописи болгарские магометане творят нечто и «пуще» того. В летописи греческий философ-обличитель приписывал болгарам-магометанам следующие «скверны», напоминающие ему о наказанных богом «Содоме и Гоморре»: «си бо омывают оходы своя, поливающе водою, в рот вливають и по браде мажются... также и жены творят туже скверну, и ино пуще от совокупленья мужська и женьска вкушають» (ПСРЛ 1: 37). То есть «вкушают» сперму. А теперь рассмотрим тот брачно- фаллический обряд, который с таким ужасом читал в древнерусских поучениях («Словах») Аничков. Брачно-фаллический обряд интересен тем, что по времени приурочен к тому же зимнему сезону, что и Святки: сразу за Святками начинались свадьбы: период до Масленицы был по традиции «сватебным временем» (Zelenin 1927/1991: 403, 406; Чичеров 1957: 112-113). Суть обряда автор указанного «Слова об идолах» изложил так. Отметив, что у некоторых иноземных народов люди «чтуть срамные оуды, и в образы створены, и кланяются им и требы им кладут», обличитель продолжает: «Словене же на свадьбах вкладывающе срамоту и чесновиток в ведра, пьють». Цитируя и комментируя это сообщение, Гальковский (1913: 40) отметил, что ему известна точная этнографическая аналогия. А в «Слове некоего христолюбца» этот обычай изложен подробнее, с раздельным употреблением чеснока и изображения фалла. «Окаянные невегласи», мнящие богинями вил (их же тридесять сестриц), «чесновиток богом же творять егда же боудеть оу кого пир, тогда кладуть в ведра и в чаше и пьють веселящеся о идолах своих...» Они же «устроивше срамоту моужьскоую и вкрадывающе в ведра и в чаше пьють и, вынемте, осморкывають и облизывают и целоують... Не токмо же то творять невеже, но и веже, попове и книжници» (Аничков 1914: 374). Итак, обряд применялся не только на свадьбах, но и вообще на пирах и был широко распространен на Руси. Как обстоит дело с археологическими подтверждениями? Рыбаков собрал археологические свидетельства справедливости этих указаний (рис. 43-44). Деревянное изображение мужчины из Старой Русы XI в. воспринимается им как стилизованное под фалл: конически приостренная голова на столбообразном туловище без конечностей и без шеи его вроде бы образует головку члена. Фигурку из средневековых слоев Новгорода (голова, покрытая конической шапкой, на длинной шее, а ниже столбообразное туловище без конечностей — см. Янин и др. 1971: 17) тоже трактуют в этом плане (Чаусидис 1994: 346-347), хотя твердых оснований для этого нет, если не воспринимать всякий ксоан как намек на фалл.
Рис. 43. Свадебный набор XII в. из Ленчицы (Польша): бадейки и деревянная фигурка фаллоса. (По книге Рыбакова 1981/1997: 49, рис.)
Рис. 44. Деревянные фаллические фигурки древних славян: находки из Старой Русы (слой XI в., раскопки А. Ф. Медведева), Волина (Польша), Стрмена (Болгария) Но есть и более однозначные находки, правда, в Польше и Болгарии. При раскопках в Волине (Польша) в средневековой избе найден деревянный фалл длиной ок. 8 см (Filipowiak 1979: ИЗ, rys. 4). Деревянный фалл, найденный вместе с деревянным ведерком, в раскопках Яжджевского слоев XII—XIII вв. в Ленчице (Рыбаков 1981:49; 1997: 49-50) стилизован под человека, но столбообразное туловище без конечностей не подразумевает восприятие головы как головки члена: головка члена сделана на противоположном конце — вместо ног (Рыбаков 1997: 49). В Болгарии на средневековом поселении Стрмен в Русенском округе найден продолговатый четырехгранный предмет с конусовидным завершением и сплошным циркульным орнаментом, маленькими кружками, на корпусе (Георгиев 1984: 20-21, обр. 6). Кое-кто (в частности Чаусидис 1994: 348-349) склонен воспринимать как стилизованные под фалл и многочисленные новгородские «чурки», трактуемые Рыбаковым (1987: 497-500) как домашние идолы из божниц, изображения предков. Но для этого также нет твердых оснований. Вторая из «грязнейших подробностей», близко напоминающая наблюдение Горького, изложена в «Слове об идолах»: «И Мокошь чтут и кылоу и малакию иже есть роучной блоуд велми почитают рекуще буякини!» (Аничков 1914: 385; Гальковский 1913: 23). «Килу» Аничков считает ошибкой переписчика (вместо «вилу»). Мокошь, чей идол, возможно, стоял в Киеве при Владимире, — сугубо женская богиня, ведающая женскими работами (прядение, ткачество и др.) и замещенная потом Параскевой Пятницей. Что имелось в виду под килой, сказать трудно (игра в мяч?). Буякини, если это только не результат ошибок списывания, — определение какой-то категории женщин, практикующей оргиастическую обрядность. Термин пытались толковать, исходя из родства со словами «буйный», «буй-тур» и т. п., но гораздо осмысленнее связь со словами «буй», «погост», «буево» «кладбище», «буйвище» «место погребения заложных». Таким образом, буякини — это участницы покойницких игр, точнее — святочной драмы воскрешения мертвого бога (или его воплощения). «Малакия» же — слово греческое (цоЛакш — 'изнеженность'), и уже в греческом оно эвфемистически обозначало онанизм, мастурбацию, рукоблудие. Что здесь не простая калька с греческого текста, видно из соседства с Мокошью и пояснения «роучный блоуд». Слово это в искаженой форме («малафья») бытует в русской простонародной речи и сейчас, означая сперму. Такой переход значения, вероятно, говорит о том, что целью «малакии», почитаемой буякинями, был не «роучный блоуд», не услаждение (для этого оттенка в русском языке привились другие термины, например, «рукоблудие», «дрочка», «суходрочка»), а добывание спермы. В этой связи вторая «грязнейшая подробность» приобретает интерес, хотя и отнесена только к южным славянам, к той части их, которую знал автор «Слова». Для него болгары — уже не магометане, ибо к его времени пришлые с Волги полукочевые болгары-завоеватели уже слились с местным славянским населением в один массив. Он пишет, что от иноземных писаний (это по его мнению) «болгаре научившеся, от срамных оуд истекшюю скверну вкушають, рекуще яко сим вкушением оцещаються греси» («Слово об идолах»). Последнее добавление делает совершенно ясным два обстоятельства: во-первых, что это было не развратное деяние, обусловленное пагубным влиянием иноземных писаний или психопатическими отклонениями отдельных личностей, а религиозный обряд, и, во- вторых, что объектом этого действия (называемого в сексологии фелляцией) был не просто некий любовник, а воплощение бога.Поскольку эта «скверна» совпадает с той, которую летописный философ-обличитель приписывал болгарам-магометанам, возникает вопрос о заимствовании обличения. Но кто у кого? Поскольку летопись древнее, вероятно, автор «Слова об идолах», прочтя в летописи обличение болгар-магометан в скверне или услышав эту легенду в устном варианте, еще более древнем, отнес обличаемую скверну к современным ему болгарам-славянам. Но возможна и более глубокая трактовка, отчасти прямо противоположная: зная существование этого языческого обычая на своей, восточно-славянской почве, отцы церкви и внесли эту деталь в легенду об испытании вер, послужившую основой для летописного рассказа о философе-обличителе, в котором эта скверна отмечена у иноверцев-иностранцев. А более поздний автор «Слова», говоря уже о болгарах как славянах и обличая их в той же скверне, не преминул отметить, что они выучились ей, начитавшись иноземных еретических сочинений. Свидетельством того, что это явление имелось и на русской почве, может служить известное очень старое простонародное обозначение личностей, применяющих фелляцию («хуесос»), ставшее обидным бранным словом из-за дискредитации языческой обрядности (а скорее, имевшее такой характер и до того, но вне обрядности). В западно-европейских языках аналогичные обозначения являются слэнговыми нововведениями. Кстати, тот распространенный у славян брачный фаллический обряд, который не столь смутил Аничкова, как поглощение спермы, является всего лишь смягченным подражанием фелляции: пьется вода, в которую был опущен искусственный фаллос; в саркастическом изображении «некоего христолюбца» сходство еще ближе. Зачем нужно было добывать и как-то потреблять (проглатывать?) сперму или (видимо, смягченный вариант) заменявшую ее воду, в которой побывал фаллос или его изваяние? Для объяснения есть две возможности. Во-первых, у многих народов было убеждение, что зачатие возможно в результате проникновения спермы в утробу женщины не только через вагину, но и через рот или через любое другое отрерстие. Так, у египтян в погребальных «Текстах пирамид» понятия «зачать» и «проглотить» обозначаются одним и тем же словом (Матье 1956: 22), а чудесное зачатие Иисуса Христа произошло, как считали некоторые средневековые схоласты, через ухо девы Марии. Если бог (Перун) должен родится заново, то он должен быть зачат, а так как это бог, то зачат он должен быть от самого себя (или своего воплощения) и зачатие это должно быть чудесным. В древности это не казалось странной и абсурдной идеей. Аналогичные представления существовали у многих народов. У индоариев были богато разработанные представления о возрождении покойника для новой жизни (сансара), и этому был подчинен индийский погребальный ритуал шраддха. Считалось, что умирая человек жертвовал свое тело богам — совершением обрядов дикша (Айтареябрахмана 6, 3, 9). Предусматривалось будущее рождение покойника для новой жизни, которое должно быть обеспечено в ритуале реальным сношением покойного с супругой и зачатием нового тела (Майтраянисамхита 3, 6, 7). В предвидении близкой смерти сношение совершалось загодя (обряд адъя-ьираддха). Если этого не удалось совершить заблаговременно, супругу убивали и клали оба трупа в могилу в позе сношения (обряд саха- марана — Kaelber 1976) — в позах сношения лежат скелеты в могилах бронзового века Украины и Предкавказья. Это погребения, которые есть основания считать индоарийскими (Клейн 1979; 1980; Klejn 1984). Аналогичные представления были и у других народов. У славян было нечто вроде сахамараны — соумирания (Еремина 1989). У русов Ибн-Фадлана жену заменяла наложница, а покойника — участники похорон, при чем каждый приговаривал: «Делаю это за господина» (Ибн-Фадлан 104-104, 108; Ковалевский 1956; Велецкая 1968а; Петрухин 1996: 32-39). Греки боялись, что покойники в гробу зачнут мстителей (Nilsson 1941: 100). Масуди и Ибн-Даст (X в.) сообщают, что у славян парней, умерших холостыми, женили посмертно (Гаркави 1870: 129). Посмертное венчание у русских засвидетельствовано этнографией (Соболев 1913: 153), а для древней Руси и фольклором (былина о Потоке — Гальковский 1916: 78-79). Посмертная свадьба («мртва свадба» у южных славян) — широко распространенный обычай у индоевропейцев (Schrader 1904; Виноградова 1996: 218-221). Во-вторых, активная выработка спермы — непременный атрибут молодости, и в глазах первобытных людей стимуляция производства спермы должна усиливать этот статус мужчины, а причащение к ней должно сохранять такое же состояние у женщины. Вероятно, пережитком этой связи фелляции с воскресительно- омолодительной обрядностью является убеждение, сохранившееся в городской люмпенской среде, что сперма имеет целебные свойства и является средством (питьем, мазью), продляющим молодость и придающим свежесть лицу. Опрашивая многих гомосексуалов при работе над книгой «Другая любовь», я сталкивался с этим массовым убеждением, но тогда не придавал ему значения. Конечно, оно может быть просто оправданием приверженности к фелляции, но это неприложимо к другому варианту, который есть в гомосексуальных исповедях (то ли документальных, то ли порнографических). Я нашел его в Интернете в рассказе Андрея Горина «Тайна за семью печатями», где, со слов некоего Сергея Иванина, старший гомосексуальный брат убеждает младшего, у которого прыщи пошли по лицу: «Дрочить надо, если другого ничего не представляется! А еще лучше, спустить в руку и лицо мазать!» Далее следует ссылка на то, что еще в древнем мире женщины использовали сперму в качестве масок для лица! (в Интернете — http ://xgay.ru/gay/brothers/story 15366.html). Это отношение к сперме отражает почитание мужского семени, характерное для древних народов. В своей книге «Другая любовь» (Клейн 2000: 193-194) я приводил данные о том, что у первобытных народов сперма старших (мужчин и юношей) рассматривалась как необходимое средство для роста младших мальчиков. У киваи на Новой Гвинее старейшины, по ритуалу, должны содомизировать юношей, «чтобы сделать их сильными». Папуасы и кераки на Новой Гвинее делают то же самое «ибо растущему мальчику необходимы соки мужества» (Williams 1936; Ford and Beach 1965; Herdt 1987). Во время обряда инициации у маринд-аним мальчика лет девяти содомизирует старший брат его матери, а за ним все мужчины, находящиеся в мужском доме. Их семя, введенное в его задний проход, должно сделать его сильным и смелым, а без этого он не сможет стать хорошим охотником, да и член его не сможет становиться твердым в нужных обстоятельствах. Чем больше семени он получит, тем быстрее вырастет (Baal 1966). Самбия же (условное название новогвинейского племени, чтобы укрыть его от нашествия европейских «секс-туристов») широко практикуют фелляцию. Тут распространено убеждение, что для роста и развития мальчиков им необходимо пить семя. По наблюдению исследователя второй половины XX в., до полового созревания мальчики сосут члены у старших подростков и юношей, а потом, когда подрастут, сами дают пососать младшим. Это не столько эротическое занятие, сколько обряд: никто не разбирает, привлекателен партнер или нет. Тут тоже уверены, что чем больше семени мальчик получит (в данном случае — проглотит), тем более высоким и сильным он вырастет. Юноши от 16 до 25 лет у этого племени ведут, в сущности, бисексуальный образ жизни, а, став отцами переходят к исключительно гетеросексуальному поведению (Herdt 1981, 1982). Такие же обряды отмечены тем же исследователем вообще в Меланезии (Herdt 1984). Греческий врач конца I—начала II вв. Аретей в сочинении «О причинах хронических болезней» писал: «Ведь именно животворное семя делает нас мужественными, храбрыми, крепкими, полными пыла и сил, оно покрывает нас пышными волосами и заставляет наш голос низко звучать. Оно позволяет нам мыслить и действовать решительно: таков муж, достигший половой зрелости. Те же, у кого нет той животворной жидкости, напротив, покрыты морщинами, слабы, тщедушны, лишены бороды и волос на теле, — они подобны женщинам» (Aret. II, 5. — Цит. по Фуко 1998: 128). Естественна его рекомендация беречь свое семя, ибо «хранящий свое семя» становится сильнее всех. Отсюда недалеко до веры в целебные свойства семени и его омолаживающий эффект. Теперь становится ясным, зачем в начале XX в. на Святках волокли девок «прикладываться» к покойнику, у которого одежда была «приведена в беспорядок» и были обнажены неприличные места, а также куда «девки» должны были его целовать и какие подробности умалчивали тогдашние этнографы. Это были пережитки старой святочной оргиастической обрядности. «Целование», по-видимому, означало не просто поцелуи, но и более сексуальные действия («грязные подробности») — мастурбацию и фелляцию, добывание спермы, которая и рассматривалась как настоящая «аква вита», вода жизни, оживляющая и омолаживающая. Только вопрос — кого. Судя по основному содержанию праздника, оживлению и омоложению подлежал сам бог — Старый Бадняк, Перун. По употреблению спермы, однако, стать свежее и красивее, а главное, жизнеспособнее могли те, кому она доставалась, — «девки». Очевидно, действовала магия причастия: и лежавший умрун — не сам ведь бог, а его воплощение. Достаточно было массового участия молодых и массового действия омолаживания — как в спектакле (вскакивавший умрун), так и в потреблении спермы, чтобы это способствовало омоложению и оживлению бога. Итак, если провожали Перуна в виде итифаллического старика Ярилы, то молодой Перун, Перун-Божич, был не менее тесно связан с фаллическим культом и оргиастической обрядностью. Уходящего Перуна-Ярилу оплакивали женщины; «девкам», буякиням, предстояло играть важную роль в обрядах возвращения бога к новой жизни, в его омоложении и воскрешении. Приобщаясь к этому событию, они и сами обретали обновление, омоложение и очищение, что усиливало воздействие праздничных обрядов на божество. Выше уже была показана связь с Перуном русалок, а у болгар с русалиями были связаны кукеры — ряженые парни и мужчины, составлявшие свиту персонажа, представляемого итифаллическим «царем». «Царя» этого убивают и воскрешают; это рассматривается как наследие культа Диониса (Маринов 1907; Арнаудов 1920: 138-238; Вакарелски 1974: 609-611; Попов 1994; Колева 1977: 278-281). Воскрешает молодуха (Колева 1977: 279), что напоминает русские обряды воскрешения «умрана». Главная задача кукеров — обход села и ритуальная пахота. Кукеры вооружены деревянными саблями, молотами и «пометами» (помелами для выгребания золы из печи), а главный кукер снабжен огромным фаллосом. К этому фаллосу спешат дотронуться бездетные женщины (Колева 1977; Стаменова 1982). Кукер старался тыкать этим фаллосом женщин сзади, имитируя коитус. Деревянный фаллос — это хорошо обработанная палка, имитирующая оригинал и окрашенная в красный цвет (целиком или же краской покрыт только ее конец). Длина ее — около 15 см, а иногда до полуметра. После завершения всех дел кукеры купаются в реке. Ряжение в кукеров было приурочено к неделе после сырного заговенья, т. е. к той, на которую в России приходится Масленица, но это вовсе не означает, что они сдвинуты сюда с летнего солнцеворота, как в России. 1 марта у болгар долго сохранялось празднование Нового года, и вполне возможно, что кукеры были новогодними ряжеными. Некоторыми своими чертами кукеры схожи с новогодними «сурвакарами» (Петров 1972). В Западной Болгарии и на границе с Сербией на Новый год ряженые «джамалари» перед каждым домом венчают «невесту» — мужчину, переодетого в женскую одежду. После этого валят ее на землю и главный из ряженых, «дедица», совершает легко опознаваемые действия прикрепленным между ногами деревянным фаллосом, завернутым в кожу. «Баба» после этого рожает «ребенка» — выпуская из-под платья котенка или щенка или вырезанную из дерева куклу (Плотникова 1996: 306-307). Видимо, не Дионис тут сказывался, а славянский Перун, и действа его воскрешения имели общеславянский характер. Деление года на две половины не ограничивалось восточными славянами. В кельтской религии год также делился на две половины — летнюю и зимнюю, но не по солнцестояниям, хотя поддержка хода солнца в обрядах учитывалась (Широкова 2000: 190). Особенно любопытно, что в греческой языческой религии календарь тоже делился на полугодия, и это было связано с уходом и возвращением Аполлона — бога очищения. Летняя половина календаря называлась эпидемией (присутствием) Аполлона, зимняя — anoдемией (отсутствием) Аполлона. На их стыках, осенью и весной, справлялись аполлоновские праздники: в октябре-ноябре — пианепсии (это проводы Аполлона), в мае-июне — таргелии (это встреча его первыми плодами, хлебом первого помола и жертвоприношением мужчины и женщины) (Лосев 1957: 425). У нас первому соответствовала бы Дедовская родительская неделя (белорусские Дзяды), второму — Зеленые Святки (семик-троицкие торжества). И в болгарских пословицах год тоже делится на две половины — летнюю и зимнюю, причем не по сельскохозяйственным работам: Святой Георгий лето приносит, а Святой Дмитрий — зиму (Колева 1973: 266). Старики говорили, что есть два солнца: летнее и зимнее. Летнее греет от Георгиева дня до Дмитриева дня, а зимнее — от Дмитриева до Георгиева. То же явление наблюдается у германцев и в Авесте (Арнаудов 1971: 12). Однако в нашем климатическом поясе первые плоды и хлеб не поспевают к маю-июню, а получение урожая вообще подвергается риску в течение всего времени уборки, так что его можно считать гарантированным только глубокой осенью. Поэтому вся система календарного приурочения встреч и проводов бога была здесь иной. Встреча Перуна (его рождение) отмечается не весной, а зимой — это зимние Святки, зимний солнцеворот, когда солнце находится в самой нижней точке и начинает возрастать; проводы же Перуна — не осенью, а летом — это Купала, летний солнцеворот, когда солнце в высшей точке и начинает убывать. Это подметил Гальковский (1913: 97-98): «Все наши народные праздники приурочены к зимнему или летнему солнцевороту...». Соответственно основные культовые половины календаря у славян (эпидемия и аподемия) — не зимняя и летняя, а весенняя и осенняя. Культ же Аполлона отправляли именно женщины и девушки. Та же структура и схожие контингенты. Но греческие формы известны по богатой древней литературе, а славянские приходится реконструировать по следам и обрывкам. Однако и они складываются в цельную систему. |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||